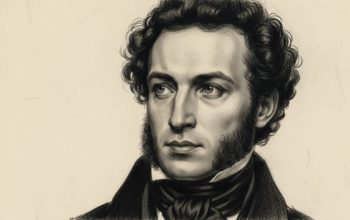Его рисунки, сделанные на передовой, печатала на своих страницах газета «Правда», его плакаты наклеивали на лобовую броню «тридцатьчетвёрок», а вышедшие из-под его карандаша портреты симпатичных маленьких детей тоскующие по родному дому солдаты вырезали из журналов и бережно хранили в заплечных вещевых мешках.
Позже, уже после войны, писатель Борис Полевой, вспоминая, как во время Сталинградской битвы наши войска переправлялись через Волгу под шквальным пулемётным и миномётным огнём, отметил, что «на одной из этих переправ, у колхоза «Красный путь», работники политотдела дивизии поставили огромный плакат, на котором был изображён боец-пулемётчик. В лице пулемётчика было так хорошо передано выражение боевого упорства, ярости битвы, патриотической страстности, что не надо было никакой надписи, чтобы понять, что плакат этот говорит: «Они не пройдут!..» У плаката всё время стояли бойцы, которые ждали очереди на паром. Стоя у плаката, они как бы получали крещение перед вступлением в великую битву, из которой, может быть, немногие вернутся домой…» Это был плакат с рисунка художника Николая Николаевича Жукова.
НА ФРОНТ однофамилец прославленного полководца ушёл добровольцем. Но по состоянию здоровья и по воле начальства попал лишь в… писари. К счастью, ненадолго. Едва командование узнало, что писарь Жуков — известный художник-график, автор иллюстраций к книге «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», вышедшей огромным тиражом в 1939 году, его статус кардинально изменился: местом дальнейшей службы Николая Николаевича стала армейская газета «На разгром врага», а его главным оружием — обыкновенный карандаш. «Иногда в землянке, иногда в обогревочном пункте мне приходилось видеть человека в не очень складно сшитой шинели, который сидел на пеньке или обрубке немецкой машины с блокнотом в руках и быстро-быстро «чиркал» карандашом. Иногда это было небезопасно, иногда это было в зоне обстрела, а человек этот сидел и с огромным увлечением что-то рисовал», — вспоминал всё тот же Борис Полевой о Николае Жукове.
Рисовал он в любой обстановке, даже под вражеским огнём, когда над головой насвистывали пули, когда рядом грохотали разрывы артиллерийских снарядов, а комья грязи падали на уже заполненный бумажный лист. Он рисовал то стоя, то лёжа, а иногда сидя прямо на мокрой от дождя земле, прислонившись спиной к расколотому взрывом бомбы стволу старой берёзы, из которого, будто слёзы, капал прозрачный сок. А вечерами в тесной землянке при тусклом свете керосиновой лампы записывал в блокнот то, что запало в память, но не успело или не смогло запечатлеться в рисунках: «Тяжёлые танки, накрытые брезентом, стоят, как огромные кони, утаивая мощь и силу под своей попоной… На одном перекрёстке, видимо, от налёта авиации, сбились в кучу артиллерийские лошади — передняя, наехавшая на повозку, поднялась на дыбы, так и была убита, в состоянии безумия и страха… В это время в атаку двинулись танки. Они шли по высокой влажной траве, и летящие во все стороны комья земли напоминали всплески волн, сопровождающие движение корабля…»
Как же отразил фронтовой художник Николай Жуков Великую Отечественную? На этот вопрос можно ответить одним словом: жизнелюбиво. Он умел изобразить солдата не только бегущим в атаку или в ярости бросающим гранату в фашистов и одновременно зубами затягивающим бинт на другой, раненой, руке. Вот солдат в совершенно другой ситуации — собираясь заштопать порванную в бою гимнастёрку, он неумело вдевает нитку в иголку, от непривычного усердия сморщив лицо. А вот красноармеец с автоматом, висящим на плече дулом вниз, прощается с молоденькой медсестрой в белой косынке — на то, что у этой пары есть будущее, если, конечно, паренёк уцелеет на войне, намекает название рисунка: «Спасибо, родная!»
Или такой незамысловатый сюжет: поставив горячий котелок на холодный ствол автомата, солдат в зимней шапке-ушанке и тёплом полушубке ожесточённо дует на обжигающий губы суп, а рядом лежит краюха хлеба, венчает которую грозно воткнутый в неё штык-нож. А насколько колоритен боец на рисунке «Давай закурим!» — лукаво улыбаясь, сейчас он начнёт рассказывать случайному слушателю какую-нибудь фронтовую байку, совсем как Василий Тёркин из одноимённой поэмы Александра Твардовского.
И насколько трогательными получились на листе, вырванном из походного блокнота, не по-детски серьёзные личики ребятишек военной поры — таким образом художник отблагодарил их мать, хозяйку чудом уцелевшей в прифронтовой зоне хаты за миску горячих щей, за сапоги, высушенные на печке, за ломоть ароматного деревенского хлеба. Между прочим, потом, после войны, эти же детские лица, сохранённые в цепкой памяти художника, «перекочуют» на страницы «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, проиллюстрированной его давним фронтовым знакомцем Николаем Жуковым. Помните ребят, которые нашли сбитого фашистами лётчика Мересьева в глухом зимнем лесу?
На фронте невозможно что-либо приукрасить, нельзя солгать, ведь за спиной человека с карандашом в руке почти всегда стоят люди, наблюдающие за каждым его движением, проверяющие на правду каждый ложащийся на бумагу штрих. «Творческий процесс фронтового художника был постоянно как бы под контролем окружающих его людей, — писал Н.Н. Жуков в своих воспоминаниях. — Каждый из нас мгновенно узнавал объективное мнение о своей работе. Как мишень даёт возможность сразу определить, кто как стрелял, так и по лицам зрителей, смотрящих работу художника, можно безошибочно определить степень её удачи».
Впоследствии, в 1963 году, Николай Николаевич Жуков получит почётное звание народного художника СССР. Но подлинно народным художником он стал гораздо раньше. Стал им на войне.
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.