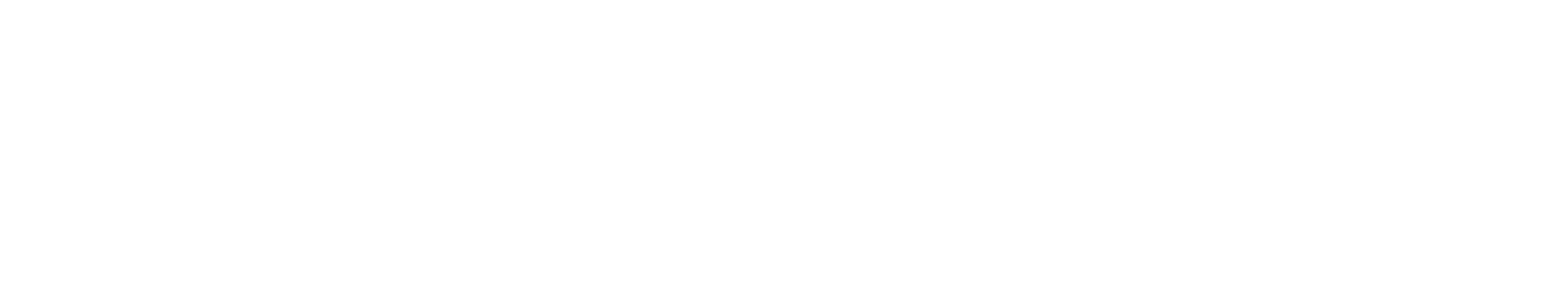По материалам публикаций на сайте газеты «Правда»
Автор — Л.Т. Космодемьянская
(Продолжение.
Начало в № 91)
В школу!
Из всех памятных дней в жизни человека день, когда он впервые ведёт своего ребёнка в школу,— один из самых хороших. Наверно, все матери помнят его. Помню и я.
Это первое сентября 1931 года. Мы совсем недавно по настоятельным приглашениям моих сестры и брата переехали в Москву. И это утро было такое ясное, безоблачное, деревья Тимирязевки стояли все в золоте. Сухие листья шуршали под ногами, нашёптывая что-то таинственное и ободряющее — должно быть, о том, что с этого часа начинается для моих ребят совсем новая жизнь.
Я вела детей за руки. Они стали торжественные, сосредоточенные и, пожалуй, немного испуганные. Зоя крепко сжимала свободной рукой сумку, в которой лежали букварь, тетради в клетку и в косую линейку, пенал с карандашами. Шуре очень хотелось самому нести эту замечательную сумку, но она досталась Зое — по старшинству. Через тринадцать дней Зое должно было исполниться восемь лет, а Шуре едва пошёл седьмой.
Что и говорить, Шура был ещё мал — и, однако, мы решили отдать его в школу. Он очень привык к сестре и даже представить себе не мог, как это Зоя пойдёт в школу, а он останется дома. Да нам и не с кем было оставлять его: и я, и Анатолий Петрович работали.
Первой школьной учительницей моих детей была я сама. Я вела в тот год подготовительный, «нулевой» класс, и заведующий школой определил Зою и Шуру ко мне.
И вот мы вошли в класс. Тридцать таких же малышей — девочек и мальчиков — поднялись нам навстречу. Я усадила Зою и Шуру на одну парту, неподалёку от доски, и начала урок…
Помню, в первые дни один мальчуган принялся скакать вокруг Зои на одной ножке, распевая: «Зойка, Зойка, упала в помойку!» Он выкрикивал этот стишок с настоящим упоением. Зоя слушала молча, с невозмутимым видом, а когда мальчуган умолк на мгновение, чтобы перевести дух, сказала спокойно:
— Я даже и не знала, что ты такой глупый.
Мальчуган недоумённо моргнул, повторил дразнилку ещё раз, но уже без прежнего воодушевления, а потом и совсем отошёл от Зои.
Однажды, когда Зоя была дежурная, кто-то разбил в классе стекло. Я совсем не собиралась наказывать виновника: мне думается, невозможно найти такого человека, который в жизни не разбил бы хоть одного стекла, без этого детства не бывает. Мой Шура, например, разбил столько стёкол, что с лихвой хватило бы ещё на двоих. Но мне хотелось, чтобы виновный сознался сам. Я медлила войти в класс и стояла в коридоре, обдумывая, как начать разговор с ребятами. И тут я услышала из-за двери Зоин голос:
— Кто разбил?
Я тихо заглянула в класс. Зоя стояла на стуле, вокруг толпились ребята.
— Кто разбил, говори! — требовательно повторила Зоя. — Всё равно я по глазам узнаю, — добавила она с глубочайшим убеждением.
Наступило короткое молчание, и потом курносый, толстощёкий Петя Рябов, один из первых озорников в нашем классе, сказал со вздохом:
— Это я разбил…
Как видно, он вполне поверил, что Зоя может узнавать по глазам самые сокровенные мысли. Она и впрямь говорила так, словно ни капли не сомневалась в этой своей способности, но объяснилось это очень просто. Бабушка Мавра Михайловна обычно говорила внучатам, когда им случалось напроказить: «Это кто натворил? Ну-ка, погляди мне в глаза, я по глазам всё узнаю!» — и Зоя хорошо запомнила бабушкино чудесное средство узнавать правду.
…Вскоре Зою и Шуру пришлось перевести из моего класса в другой, и вот почему.
Зоя вела себя очень сдержанно и никак не проявляла своих родственных отношений. Иногда она даже говорила: «Любовь Тимофеевна», подчёркивая, что в классе она такая же ученица, как и все, и я для неё, как для всех, — учительница. А вот Шура вёл себя совсем иначе. Во время урока, дождавшись минуты полной тишины, он вдруг громко окликал меня: «Мама!» — и при этом лукаво поглядывал по сторонам.
Шурины выходки неизменно вызывали в классе суматоху; учительница, Любовь Тимофеевна, и вдруг — мама! Это очень веселило детей, но мешало работать. И пошли мои ребята в параллельный класс, к другой учительнице.
Школа, школьные занятия завладели Зоей безраздельно. Придя домой и поев, она тотчас садилась за уроки. Напоминать ей об этом никогда не приходилось. Учиться — это было теперь для неё самое важное, самое увлекательное, об этом были все её мысли. Каждую букву, каждую цифру она выводила с чрезвычайной старательностью, тетради и книги брала в руки так бережно и осторожно, как будто они были живые. Учебники мы всегда покупали новые — Анатолий Петрович считал, что это очень важно.
— Плохо, когда ребёнку в руки попадает грязная, неопрятная книга, — говорил он, — такую и беречь не захочется…
Когда ребята собирались сесть за уроки, Зоя спрашивала строго:
— Шура, а руки у тебя чистые?
Сначала он пробовал бунтовать:
— А тебе какое дело? Ну тебя! Отстань!
Но потом смирился и, прежде чем взяться за учебники, уже сам, без напоминаний, мыл руки. Надо признаться, предосторожность была не лишняя: набегавшись с ребятами, наш Шура обычно возвращался со двора перемазанный до ушей; иной раз просто понять нельзя было, как это он умудрился выпачкаться, словно по очереди вывалялся в песке, в угле, извёстке и толчёном кирпиче…
Дети готовили уроки за обеденным столом. Зоя подолгу просиживала над книгой. У Шуры терпения хватало на полчаса кряду, не больше. Ему хотелось поскорее убежать опять на улицу, к ребятам. И он то и дело тяжело вздыхал, косясь на дверь.
Что поделаешь! Ему ведь не было и семи лет.
Праздник
Седьмого ноября мои ребята поднялись ни свет ни заря; отец обещал взять их с собой на демонстрацию, и они ждали этого дня с огромным нетерпением.
С завтраком они справились необычайно быстро. Анатолий Петрович стал бриться. Ребята никак не могли дождаться, пока он кончит. Они пробовали заняться чем-нибудь, но это им плохо удавалось. Даже излюбленная «тихая» игра (в крестики и нолики) не шла на ум.
Наконец мы оделись и вышли на улицу. День был ветреный, неприветливый, шёл мелкий дождь пополам со снегом. Но не прошли мы и десяти шагов, как впереди зазвучал шум праздника: музыка, песни, говор, смех. Чем ближе к центру, тем шумней, веселей, радостней становилось на улицах. На счастье, скоро и дождь перестал, а серого неба не замечали ни ребята, ни взрослые — столько алых, горячих знамён, столько ярких красок было вокруг!
Увидев первые колонны демонстрантов, Шура и Зоя пришли в совершенный восторг и уже не переставали восхищаться и радоваться до конца демонстрации. Они громко, хоть и не без запинки, читали каждый плакат, подпевали каждому хору, начинали приплясывать под звуки каждого оркестра. Они не шли — их несло тёплой, широкой волной праздника. Раскрасневшиеся, с блестящими глазами, с шапками, сползающими на затылок (надо было всё время смотреть вверх!), они не разговаривали связно, а только вскрикивали:
— Смотри, смотри! Как украшено! Звезда какая! А там, там! А вон шары летят! Смотри скорее!
Когда мы подошли к Красной площади, ребята притихли, повернули головы направо и уже не сводили глаз с Мавзолея.
…Красная площадь! Сколько мыслей, сколько чувств было связано с этими словами! Как мы мечтали в Осиновых Гаях о дне, когда увидим её! Год назад, впервые приехав в Москву, я пришла на Красную площадь. Сколько я слышала о ней, сколько читала — и всё же не представляла её себе такой простой и такой величавой. Теперь, в торжественный час, она казалась мне совсем новой.
Я вижу зубцы и башни Кремлёвской стены, суровые и задумчивые ели у могил борцов революции, бессмертное имя — ЛЕНИН — на мраморных плитах.
Бескрайний людской поток течёт и течёт, жаркой волной омывая простые и строгие стены Мавзолея. И кажется мне, что вся вера, вся надежда и любовь человечества бесконечным прибоем хлынули сюда, к великому маяку, указывающему путь в грядущее.
Мощное «ура» прокатилось по площади. Шура уже не шёл, а почти плясал рядом со мной. Зоя тоже бежала вприпрыжку, крепко держась за руку отца.
Мы спустились к набережной. Из-за туч вдруг выглянуло солнце, в реке отразились кремлёвские башни и купола, задрожали золотые блёстки. У моста мы увидали продавца воздушных шаров. Анатолий Петрович подошёл к нему и купил три красных и два зелёных — получилась красивая пёстрая гроздь. Он вручил один шар Зое, другой — Шуре.
— А с остальными что будем делать? — спросил он.
— Отпустим на волю! — воскликнула Зоя.
И Анатолий Петрович на ходу стал выпускать один шар за другим. Они взлетали вверх плавно, неторопливо.
— Постоим, постоим! — разом закричали Зоя и Шура. Остановились и другие люди, взрослые и дети. И долго мы стояли, закинув головы, и следили, как улетали в прояснившееся небо наши яркие, весёлые шары, как они становились всё меньше и меньше и наконец исчезли из глаз.
Вечером…
Несколько лет назад мне пришлось прочитать письмо человека, который потратил много внимания и заботы на своих детей, а когда они уже стали взрослыми, вдруг понял, что воспитал он их плохо. «В чём я ошибся?» — спрашивал он, перебирая в памяти прошлое. И вспоминал эти ошибки: не обратил внимания на вспыхнувшую между ребятами ссору; сделал за ребёнка то, что тот с успехом мог сделать сам; принося подарки, говорил: «Это тебе, а это тебе», а ведь лучше было сказать: «Это вам обоим»; подчас легко прощал неправду, недобросовестность и придирчиво наказывал за пустячную провинность. «Как видно, пропустил я ту минуту, когда у ребят только зарождалось себялюбие, желание освободиться от трудного дела, — писал этот человек. — И вот из пустяков, из мелочей вышло большое зло: дети мои выросли совсем не такими, какими я хотел их видеть: они грубы, эгоистичны, ленивы, между собой не дружат».
«Что же делать? — спрашивал он под конец. — Переложить дальнейшее на общество, на коллектив? Но ведь, выходит, общество должно тратить лишние силы на исправление моих ошибок — это раз. Во-вторых, самим ребятам придётся в жизни трудно. А в-третьих, где же я сам? Что я сделал?»
Это письмо было напечатано в одной из наших больших газет, кажется, в «Правде». Помню, долго я сидела тогда над этими горькими строками и думала, вспоминала…
Анатолий Петрович был хорошим педагогом. Я никогда не слышала, чтоб он читал ребятам длинные нотации, чтоб подолгу им выговаривал. Нет, он воспитывал их своим поведением, своим отношением к работе, всем своим обликом. И я поняла: это и есть лучшее воспитание.
«У меня нет времени воспитывать ребят, я целый день на работе», — слышу я нередко. И я думаю: да разве в семье надо отводить какие-то особые часы на воспитание детей? Анатолий Петрович научил меня понимать: воспитание — в каждой мелочи, в каждом твоём поступке, взгляде, слове. Всё воспитывает твоего ребёнка: и то, как ты работаешь, и как отдыхаешь, и как разговариваешь с друзьями и недругами, каков ты в здоровье и в болезни, в горе и радости, — всё замечает твой ребёнок и во всём станет тебе подражать. А если ты забываешь о нём, о его зорких, наблюдательных глазах, постоянно ищущих в каждом твоём поступке совета и примера, если ребёнок растёт рядом с тобою, сыт, обут, одет, но одинок, — тогда ничто не поможет правильно воспитывать его: ни дорогие игрушки, ни совместные увеселительные прогулки, ни строгие и разумные наставления. Ты должен быть со своим ребёнком постоянно, и он должен во всём чувствовать твою близость, никогда в ней не сомневаться.
Мы с Анатолием Петровичем были очень заняты и совсем мало времени могли проводить с детьми. Учительствуя в начальной школе, я одновременно сама училась в педагогическом институте. Анатолий Петрович работал в Тимирязевской академии, учился на курсах стенографии и усиленно готовился к поступлению в заочный технический институт — это была его давнишняя мечта. Часто мы приходили домой так поздно, что заставали ребят уже спящими. Но тем радостнее были выходные дни и вечера, которые мы проводили вместе.
Как только мы появлялись в дверях, дети со всех ног кидались к нам и наперебой выкладывали всё, что накопилось за день. Выходило не очень связно, зато шумно и с чувством:
— А у Акулины Борисовны щенок в чулан залез и суп пролил! — А я уже стихотворение выучила! — А Зойка ко мне приставала! — Да, а почему он задачку не решает? — Посмотрите, что мы вырезали. Правда, красиво? — А я щенка учил лапу подавать, он уже почти совсем выучился!..
Анатолий Петрович быстро разбирался, что к чему. Он выяснял, почему не решена задача, выслушивал выученное стихотворение, расспрашивал про щенка и, словно мимоходом, замечал:
— Грубо разговариваешь, брат Шура. Что это за выражение: «Зойка приставала»? Терпеть не могу, когда так разговаривают!
Потом мы все вместе ужинаем, дети помогают мне убрать со стола — и наступает наконец долгожданная минута…
Казалось бы, чего тут было ждать? Всё очень обыкновенно, буднично.
Анатолий Петрович расшифровывает свои стенографические записи, я готовлюсь к завтрашним урокам, перед Зоей и Шурой — альбом для рисования.
Лампа освещает только стол, вокруг которого мы сидим; а вся комната — в полутьме. Поскрипывает стул под Шурой, шуршат листы альбома.
Зоя рисует дом с высокой зелёной крышей. Из трубы идёт дым. Рядом — яблоня, а на ней круглые яблоки, каждое величиной с пятак. Иногда тут же птицы, цветы и в небе, по соседству с солнцем, пятиконечная звезда… По страницам Шуриного альбома мчатся во всех направлениях лошади, собаки, автомобили и самолёты. Карандаш в руке Шуры никогда не дрожит — он проводит ровные, уверенные линии. Я давно поняла, что Шура будет хорошо рисовать.
Так мы сидим, занимаемся каждый своим делом и ждём, когда Анатолий Петрович скажет:
— Ну, а теперь отдохнём!
Это значит, что сейчас мы все вместе во что-нибудь поиграем. Но больше всего мы любили, когда Анатолий Петрович брал в руки гитару. Не знаю даже, хорошо ли он играл, но мы очень любили его слушать и совсем забывали о времени, когда он играл одну за другой русские песни.
Пусть такие вечера выдавались редко, но они освещали нам все остальные дни, о них с удовольствием вспоминали.
Замечание, упрёк, сделанные детям в эти часы, оставляли в их душе глубокий след, а похвала и ласковое слово делали счастливыми.
— Что ж ты, Шура, сам сел на удобный стул, а маме поставил с поломанной спинкой! — сказал как-то Анатолий Петрович, и после этого я уже никогда не замечала, чтобы Шура выбрал себе вещь получше, поудобнее, оставив другим то, что похуже.
Однажды Анатолий Петрович пришёл хмурый, поздоровался с детьми сдержанней обычного.
— За что ты сегодня поколотил Анюту Степанову? — спросил он Шуру.
— Девчонка… пискля… — угрюмо ответил Шура, не поднимая глаз.
— Чтоб больше я о таком не слышал! — раздельно и резко произнёс Анатолий Петрович и, помолчав, прибавил чуть мягче: — Большой мальчишка, скоро восемь лет будет, а задираешь девочку! Не стыдно тебе?
Зато как сияли лица детей, когда отец хвалил Шуру за хороший рисунок, Зою — за аккуратную тетрадку, за чисто прибранную комнату!
Когда мы приходили поздно, дети ложились спать, не дождавшись нас, и оставляли на столе свои раскрытые тетради, чтобы мы могли посмотреть, как сделаны уроки. И пусть мы немного часов могли уделить ребятам, но всегда знали обо всём, чем они жили, что занимало и волновало их, что случалось с ними без нас. А главное, всё, что мы делали вместе, — будь то игра, занятия или работа по хозяйству, — сближало нас с детьми, и дружба наша становилась всё более глубокой и сердечной.
По дороге на учёбу
Мы жили на старом шоссе. От дома до школы было не меньше трёх километров.
Я вставала пораньше, готовила завтрак, кормила детей, и мы выходили из дому ещё затемно. Путь наш лежал через Тимирязевский парк. Деревья стояли высокие, неподвижные, точно выведенные тушью на синем, медленно светлеющем небе. Снег поскрипывал под ногами, воротники понемногу покрывались инеем от дыхания.
Мы шли втроём — Анатолий Петрович выходил из дому позже.
Сначала шагали молча, но понемногу остатки недавнего сна словно истаивали вместе с темнотой, и завязывался какой-нибудь неожиданный и интересный разговор.
— Мама, — спросила раз Зоя, — почему так: деревья чем старше, тем красивее, а человек, когда старый, становится совсем некрасивый? Почему?
Я не успела ответить.
— Неправда! — горячо возразил Шура. — Вот бабушка старая, а разве некрасивая? Красивая!
Я вспоминаю свою маму. Нет, сейчас никто не назовёт её красивой: у неё такие усталые глаза, впалые, морщинистые щёки…
Но Шура, словно подслушав мою мысль, говорит:
— Я кого люблю, тот для меня и красивый.
— Да, правда, — подумав, соглашается Зоя.
…Однажды, когда мы шли втроём вдоль шоссе, нас нагнала грузовая машина и вдруг затормозила.
— В школу? — коротко спросил шофёр, выглянув из окошка.
— В школу, — удивлённо ответила я.
— Ну-ка, давайте сюда ребятишек.
Не успела я опомниться, как Зоя с Шурой оказались в кузове и под их восторженный крик машина покатила дальше.
С того дня до самой весны в один и тот же час нагонял нас на дороге этот грузовик и, захватив ребят, довозил их почти до самой школы. Там, на углу, они вылезали, а машина мчалась дальше.
Мы никогда не дожидались «нашей машины», нам нравилось вдруг услышать за спиной знакомый басовитый гудок и такой же густой, низкий оклик: «Ну-ка, забирайтесь в кузов!» Конечно, добродушному шофёру просто было с нами по дороге, но ребята почти поверили, что он нарочно приезжает за ними. Очень приятно было так думать!
…А по воскресеньям мы «открывали» какой-нибудь новый для нас район Москвы: ездили то в Сокольники, то в Замоскворечье, то катались в трамвае «Б» по Садовому кольцу, то гуляли по Нескучному саду.
Анатолий Петрович хорошо знал Москву, и старую и новую, немало мог порассказать нам о ней.
— А где же мост? — спросил однажды Шура, когда мы проходили по Кузнецкому Мосту, и в ответ выслушал интересный рассказ о том, как здесь в старину был настоящий мост и как речка Неглинка ушла под землю.
Так мы узнали, откуда взялись в Москве всякие «валы», «ворота», Столовый, Скатертный, Гранатный переулки, Бронные улицы, Собачья площадка.
Анатолий Петрович рассказывал, почему Пресня называется Красная, почему есть Баррикадная улица и площадь Восстания.
И страница за страницей раскрывалась перед ребятами история нашего чудесного города.
Горе
Однажды в конце февраля были взяты билеты в цирк. В кино, в цирк мы водили детей не часто, зато каждый такой поход был настоящим праздником.
Ребята ждали воскресного дня с нетерпением, которое ничем нельзя было укротить: они мечтали о том, как увидят дрессированную собаку, умеющую считать до десяти, как промчится по кругу тонконогий конь с крутой шеей, украшенный серебряными блёстками, как учёный тюлень станет перебираться с бочки на бочку и ловить носом мяч, который кинет ему дрессировщик…
Всю неделю только и разговоров было что о цирке. Но в субботу, вернувшись из школы, я с удивлением увидела, что Анатолий Петрович уже дома и лежит на кровати.
— Ты почему так рано? И почему лежишь? — испуганно спросила я.
— Не беспокойся, пройдёт. Просто неважно себя почувствовал…
Не могу сказать, чтобы меня это успокоило: я видела, что Анатолий Петрович очень бледен и как-то сразу осунулся, словно он был болен уже давно и серьёзно. Зоя и Шура сидели подле и с тревогой смотрели на отца.
— Придётся вам в цирк без меня пойти,— сказал он, заставляя себя улыбнуться.
— Мы без тебя не пойдём,— решительно ответила Зоя.
— Не пойдём! — отозвался Шура.
На другой день Анатолию Петровичу стало хуже. Появилась острая боль в боку, стало лихорадить. Всегда очень сдержанный, он не жаловался, не стонал, только крепко закусил губу. Надо было пойти за врачом, но я боялась оставить мужа одного. Постучала к соседям — никто не отозвался, должно быть, вышли погулять: ведь было воскресенье. Я вернулась растерянная, не зная, как быть.
— Я пойду за доктором,— сказала вдруг Зоя, и не успела я возразить, как она уже надела пальтишко и шапку.
— Нельзя… далеко… — с трудом проговорил Анатолий Петрович.
— Нет, пойду, я пойду… Я знаю, где он живёт! Ну пожалуйста! — И, не дожидаясь ответа, Зоя почти скатилась с лестницы.
— Ну, пусть… девочка толковая… найдёт… — прошептал Анатолий Петрович и отвернулся к стене, чтобы скрыть серое от боли лицо.
Через час Зоя вернулась с врачом. Он осмотрел Анатолия Петровича и сказал коротко: «Заворот кишок. Немедленно в больницу. Нужна операция».
Операция прошла как будто благополучно, но легче Анатолию Петровичу не стало…
* * *
…Тяжело, горько терять родного человека и тогда, когда задолго до конца знаешь, что болезнь его смертельна и потеря неизбежна. Но такая внезапная, беспощадная смерть — ничего страшнее я не знаю… Неделю назад человек, никогда с детства не болевший, был полон сил, весел, жизнерадостен — и вот он в гробу, не похожий на себя, безответный, безучастный…
Дети не отходили от меня: Зоя держала за руку, Шура цеплялся за другую.
— Мама, не плачь! Мамочка, не плачь! — повторяла Зоя, глядя на неподвижное лицо отца сухими покрасневшими глазами.
…В холодный, сумрачный день мы стояли втроём в Тимирязевском парке, ожидая моих брата и сестру: они должны были приехать на похороны. Стояли мы под каким-то высоким, по-зимнему голым деревом, нас прохватывало холодным, резким ветром, и мы чувствовали себя одинокими, осиротевшими.
Не помню, как приехали мои родные, как пережили мы до конца этот холодный, тягостный, нескончаемый день. Смутно вспоминается только, как шли на кладбище, потом как вдруг отчаянно, громко заплакала Зоя — и стук земли о крышку гроба…
Без отца
С той поры моя жизнь круто изменилась. Прежде я жила, чувствуя и зная, что рядом — дорогой, близкий человек, что я всегда могу опереться на его надёжную руку. Я привыкла к этой спокойной, согревающей уверенности и даже представить себе не могла, как может быть иначе. И вдруг я осталась одна, и ответственность за судьбу наших двоих детей и за самую их жизнь безраздельно легла на мои плечи.
Шура всё-таки был ещё мал, и ужас случившегося не вполне дошёл до его сознания. Ему словно казалось, что отец просто где-то далеко, как бывало во время прежних наших разлук, и ещё вернётся когда-нибудь…
Но Зоя приняла наше горе, как взрослый человек.
Она почти не заговаривала об отце. Видя, что я задумываюсь, она подходила ко мне, заглядывала в глаза и тихонько предлагала:
— Хочешь, я тебе почитаю?
Или просила:
— Расскажи что-нибудь! Как ты была маленькая…
Или просто садилась рядом и сидела молча, прижавшись к моим коленям.
Она старалась, как умела, отвлечь меня от горьких мыслей.
Но иногда по ночам я слышала, что она плачет. Я подходила, гладила её по волосам, спрашивала тихо:
— Ты о папе?
И она неизменно отвечала:
— Нет, это я, наверно, во сне.
…Зое и прежде часто говорили: «Ты старшая, смотри за Шурой, помогай маме». Теперь эти слова наполнились новым смыслом: Зоя действительно стала моей помощницей и другом.
Я начала преподавать ещё в одной школе и ещё меньше, чем прежде, могла быть дома. С вечера я готовила обед. Зоя разогревала его, кормила Шуру, убирала комнату, а когда чуть подросла, стала и печь сама топить.
— Ох, спалит нам Зоя дом! — говорили иной раз соседи.— Ведь ребёнок ещё!
Но я знала: на Зою можно положиться спокойнее, чем на иного взрослого. Она всё делала вовремя, никогда ни о чём не забывала, даже самую скучную и маловажную работу не выполняла кое-как. Я знала: Зоя не бросит непогашенную спичку, вовремя закроет вьюшку, сразу заметит выскочивший из печки уголёк.
Однажды я вернулась домой очень поздно, с головной болью и такая усталая, что не было сил приниматься за стряпню. «Обед завтра сготовлю, — подумала я. — Встану пораньше…»
Я уснула, едва опустив голову на подушку, и… проснулась на другой день не раньше, а позже обычного: через каких-нибудь полчаса надо было уже выходить из дому, чтобы не опоздать па работу.
— Вот ведь беда! — сказала я, совсем расстроенная. — Как же это я заспалась! Придётся вам сегодня обедать всухомятку.
Вернувшись вечером, я спросила ещё с порога:
— Ну что, совсем голодные?
— А вот и не голодные, а вот и сытые! — победоносно закричал Шура, прыгая передо мной.
— Садись скорее обедать, мама, у нас сегодня жареная рыба! — торжественно объявила Зоя.
— Рыба? Какая рыба?
На сковородке и в самом деле дымилась аппетитно поджаренная рыбка. Откуда она? Дети наслаждались моим изумлением.
Шура продолжал прыгать и кричать, а Зоя, очень довольная, наконец объяснила:
— Понимаешь, мы, когда шли в школу мимо пруда, заглянули в прорубь, а там рыба. Шура хотел поймать её рукой, а она очень скользкая. Мы в школе у нянечки попросили консервную банку, положили в мешок для калош, а когда шли домой, задержались на часок возле пруда и наловили…
— Мы бы и побольше поймали, да нас какой-то дядя оттуда прогнал, говорит: утонете или руки отморозите. А мы и не отморозили! — перебил Шура.
— Мы много наловили,— продолжала Зоя.— Пришли домой, зажарили, сами поели и тебе оставили. Вкусно, правда?
В тот вечер мы с Зоей готовили обед вдвоём: она аккуратно начистила картошку, вымыла крупу и внимательно смотрела, сколько чего я кладу в кастрюлю.
…Впоследствии, вспоминая те первые месяцы после смерти Анатолия Петровича, я не раз думала, что именно тогда утвердилась в Зоином характере ранняя серьёзность, которую замечали в ней даже малознакомые люди.
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.