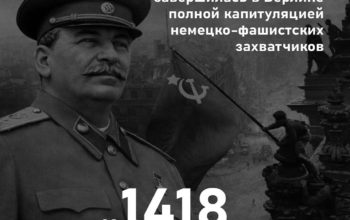В предыдущей статье, посвящённой событиям тридцатилетней давности, мы доказали, что нарастание после подписания беловежских соглашений, проведения обернувшихся незавидными результатами внутри России и на мировой арене капиталистических «преобразований» и следования в фарватере зарубежных государств общественного недовольства в 1992 — 1993 гг. представляло собой базовый фактор эскалации политического кризиса 1993 года. Правда, некоторые пытаются умолчать о столь существенной стороне дела и всё свести едва ли не к конституционному спору, к дискуссиям о перераспределении полномочий между исполнительной и законодательной властями. На наш взгляд, такая трактовка событий представляется поверхностной. Более того, разногласия между ельцинской и хасбулатовской группировками по вопросу о том, вводить в России президентскую либо парламентскую республику, представляли собой больше производную от других, более фундаментальных разногласий.
Первопричина разногласий
Напомним, что отношения между исполнительной властью и парламентариями начали охлаждаться задолго до начала «конституционного спора». Ещё в апреле 1992 года во время работы VI съезда народных депутатов Российской Федерации вся страна лицезрела жаркую полемику, демарши по социально-экономической тематике. Тогда делегаты съезда большинством голосов приняли постановление «О ходе экономической реформы», в котором в целом одобрялся курс президента и правительства, но одновременно ставился вопрос о внесении корректив в проводимую политику в сторону смягчения социальных последствий кризиса, придания капиталистическим «реформам» более умеренного характера, урегулирования финансово-экономических процессов. Кабинет министров тогда приклеил оппонентам ярлыки «консерваторов» и сторонников «реставрации казарменного коммунизма» (те же упрёки ультралибералы ставили и правительству Е.М. Примакова и Ю.Д. Маслюкова в 1998 — 1999 гг, даже экс-мэру Москвы Ю.М. Лужкову, а в 2015 году — не только коммунистам, но и разработавшим прокапиталистическую, но кейнсианскую программу видным представителям «Столыпинского клуба). Конечно же, они не упустили возможности заявить о мнимом «отсутствии» у государства возможностей осуществления мер, о которых идет речь.
Для сравнения — аналогичным образом в «популизме», в «невыполнимости обещаний» «правые» в 1998 году обвиняли кабинет министров Евгения Примакова и Юрия Маслюкова, то же сетуя и на «опустошенность бюджета», и на «риск инфляционного всплеска». Хотя Евгению Максимовичу и Юрию Дмитриевичу удалось найти ресурсы для поддержки реального сектора экономики и социальной сферы посредством наведения финансового порядка, увеличения доходной части бюджета за счет введения контроля за вывозом капиталов (обязательная продажа Центробанку 75% валютной выручки), контроля за экспортом сырьевых ресурсов, наведения порядка в деятельности крупнейших налогоплательщиков — углеводородных компаний, установления государственной монополии на водку. И им удалось решить задачи без потрясений, которыми сперва запугивали либералы.
Обращаем внимание, что в конце 1990-х годов положение казны было более незавидным, чем в начале того десятилетия. По утверждению А.Н. Илларионова, в 1991 году унаследованный от СССР внешний долг составлял 12,5% ВВП, а в 1999 году – 77% ВВП. В декабре 1991 – январе 2000 гг. данный показатель вырос с 67,9 млн. долларов до 158,7 млрд. долларов. Также Андрей Илларионов в своей статье, опубликованной 7 мая 2013 года на портале Forbes.ru приводил данные о состоянии российского бюджета. Так, в 1992 году доходы федерального бюджета составили 17,7% ВВП, консолидированного – 40,4%. В 1998 году уровень доходов федерального бюджета понизился до 11,3% ВВП, консолидированного бюджета – до 35%. Тем не менее, правительство Е.М. Примакова — Ю.Д. Маслюкова все же смогло найти способы поиска средств для смягчения кризисных последствий даже в тяжёлых условиях. Это — прямой упрек неолибералам.
Впрочем, в апреле 1992 года президент Б.Н. Ельцин, выступая на VI съезде народных депутатов, в отличие от членов правительства, в целом выразил солидарность с положениями вышеупомянутого постановления «О ходе экономической реформы» и заверил, что кабинет министров начнет заниматься подготовкой к осуществлению тех мер. Однако это больше напоминало игру в доброго и злого следователя, поскольку правительство, зависимое от Бориса Ельцина (как, впрочем, и от руководства Верховного совета) продолжало гнуть прежнюю линию. Так, летом 1992 года кабинет министров не принял инициативу Верховного совета относительно уменьшения налогообложения, существенного снижения НДС для предприятий разных форм собственности (что, впрочем, не мешало правительственным либералам представлять налоговые преференции приближённым компаниям, как правило, сосредоточенным в ТЭКе, одновременно подвергая фискальному удушению остальные отрасли экономики). В августе 1992 года обозначились разные позиции правительства и руководства Верховного совета относительно оценки действий председателя Центробанка В.В. Геращенко, предоставившего производственным предприятиям всех форм собственности специальный кредит с целью урегулирования кризиса взаимных неплатежей.
Но это были всего-навсего разногласия по фрагментарным вопросам. А по ключевым направлениям социально-экономического «реформирования» России в 1992 году у ельцинско-гайдаровского правительства и у руководства Верховного совета особо не было разногласий. Известно, что «хасбулатовцы» не только проголосовали в октябре 1991 года во время работы V (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР за утверждение обнародованной Б.Н. Ельциным программы «реформирования» России. В дальнейшем, даже давая критические оценки методам её осуществления, парламентарии в решающий момент продолжали давать ей «зелёный свет». Они шли на такой шаг даже после прошедшего в апреле 1992 года VI съезда народных депутатов, выразившего определённые сомнения в отдельных направлениях «реформирования» страны. Например, 29 мая 1992 года Верховный совет одобрил меморандум о вступлении России в Международный валютный фонд и в Мировой банк реконструкции и развития. В октябре 1992 года большинство депутатов дало «зелёный свет» чубайсовскому варианту приватизации государственной собственности.
Тем не менее, по мере эскалации кризиса и нарастания недовольства россиян все большее количество людей начало замечать, что всё идёт не так, как должно идти. Недаром в декабре 1992 года во время работы VII съезда народных депутатов РФ парламентарии подвергли критике проводившийся компрадорский неолиберальный курс, делая акцент на его деструктивных последствиях. И это неудивительно, поскольку к концу 1992 года в России не осталось ни одной социальной группы, у которой не имелись бы вопросы к правившим ультралибералам. Правда, президент Б.Н. Ельцин, и.о. премьер-министра Е.Т. Гайдар, а потом сменивший его В.С. Черномырдин до поры — до времени имитировали намерение сменить курс, декларировали намерение придать «рыночной системе» социальную направленность и вроде согласились с тезисом оппозиции о целесообразности государственного регулирования даже капиталистической экономики. Только вот их подчинённые в лице Андрея Нечаева, Анатолия Чубайса, Владимира Шумейко, Бориса Фёдорова и им подобным продолжали демонстрировать приверженность оголтелому неолиберализму и МВФ-овским рецептам. Казалось бы, если высшие должностные лица согласились с предложениями парламента и оппозиции, то логично было бы одобрить идею установления контроля законодательной власти над исполнительной, введения подотчётности кабинета министров и его представителей народным представителям. Тогда правящим кругам было бы труднее демонстрировать двойственность, провозглашать одно, а на деле осуществлять другое. Но Б.Н. Ельцин и ультралибералы категорически не соглашались на такое. Следовательно, их заявления о смене курса представляли собой попытку оказать усыпляющее политическое воздействие на народ, на оппозицию, на депутатов.
Таким образом, мы увидели истоки истоки начала спора о форме государственного устройства! Перед ними развертывалась полемика по другим, более фундаментальным вопросам.
В дальнейшем стало абсолютно очевидным, что декларации Бориса Ельцина, Егора Гайдара и Виктора Черномырдина о смене курса являлись всего-навсего тактическими уловками. Так, 9 декабря 1992 года не удалось набрать необходимого количества голосов делегатов съезда народных депутатов для утверждения Е.Т. Гайдара председателем правительства — даже несмотря на уговоры и манипуляции со стороны Р.И. Хасбулатова. Около 44% депутатского корпуса (включая председателя Верховного совета) проголосовало «за», а остальные сделали иной выбор. И что вы думаете? На следующий день Б.Н. Ельцин обрушился с гневной речью на орган народного представительства, обвинив в «ретроградстве», в «консервативности», в «прокоммунистическом настрое» и пытался сорвать работу съезда, призвав поддерживавших правительство депутатов покинуть зал заседаний, тем самым лишив форум кворума. Но немногие последовали его призыву и съезд продолжил работу. А назначение В.С. Черномырдина руководителем правительства не оправдало ожидания тех, кто рассчитывал даже на корректировку капиталистических «преобразований» (не говоря уже о сторонниках социализма). Первоначально декларируя собственную приверженность идеям государственного регулирования, Виктор Степанович на деле продолжил прежний МВФ-овский неолиберальный курс и даже в чем-то превзошел своих предшественников. Именно при нем развертывалась радикальная приватизация, после которой расцвело всевластие олигархии. Именно при Викторе Черномырдине освободили от государственного контроля даже цены и тарифы на газ и на нефть. Именно при нем отменили экспортные пошлины на вывоз сырья. Именно при Викторе Степановиче начали вынашиваться планы коммерциализации образования, здравоохранения, ЖКХ, «разукрупнения» и приватизации электроэнергетики, железнодорожного транспорта (газовую отрасль вывели за скобки этого процесса), распродажи земель. И только благодаря позиции левопатриотических сил, обладавших устойчивым представительством в Государственной Думе, соответствующим инициативам не был дан зелёный свет.
Недовольство проявлялось во всех социальных слоях населения
Среди наёмных работников физического и умственного труда
Продолжение известного курса действительно подогревало недовольство россиян. К середине 1993 года практически во всех социальных слоях накопилось предостаточно претензий к президентско-правительственной команде. Если мы перелистаем страницы хотя бы «Независимой газеты», «Российской газеты» и газеты «Известия» за 1992 — 1993 гг., то увидим, что регулярно публиковались материалы о забастовках работников предприятий, отраслей, учреждений. Например, в марте и в июне 1993 года бастовали шахтёры Воркуты, Кузбасса, Юга России, Приморского края. Летом 1993 года регулярно проводили у здания пикеты работники лесопромышленного комплекса. Шли митинги работников аграрной отрасли. В июне 1993 года крупнейшую забастовку начали сотрудники всероссийского ядерного центра «Арзамас-16». На такие же шаги шли не только занятые на производстве, но и представители интеллигенции, военнослужащих. 14 июля 1993 года в Москве состоялся общеакадемический митинг, а в научных центрах РАН – масштабные выступления в поддержку выдвинутых профсоюзом требований. Тревожные и протестные настроения звучали из уст участников состоявшейся 31 мая 1993 года пресс-конференции Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов, из уст делегатов прошедшего 23 июня 1993 года чрезвычайного съезда Российского союза ректоров. 30 июля 1993 года из-за нехватки наличных денег и из-за неоплаты отпусков слушатели Военной академии имени М.В. Фрунзе предъявили руководству учреждения требование: при невыплате в течение двух дней отпускных курсанты собирались выйти на демонстрацию, перекрыв Садовое кольцо в районе академии имени М.В. Фрунзе.
По мере ухудшения социально-экономического положения России возрастало количество тех, кто намеревался решительно отстаивать своё право на справедливую оплату труда, на достойную жизнь. Неслучайно 10 сентября 1993 года председатель Федерации независимых профсоюзов Игорь Клочков сообщил о грядущей волне массовых забастовок в целом сегменте отраслей. По его словам, 17 сентября планировали бастовать профсоюзы ВПК, 27 сентября – работники аграрной отрасли и лесной промышленности, 5 октября – работники здравоохранения, 15 октября – занятые в образовании и в культуре, а также машиностроители. Игорь Клочков добавил, что «количество бастующих будет исчисляться миллионами человек».
Примечательно, что участники перечисленных выступлений делали акцент не только на ухудшении условий труда, но и на перспективу угасания важнейших отраслей жизнеобеспечения.
Среди промышленников и предпринимателей
Помимо людей наёмного физического и умственного труда недовольство ельцинско-гайдаровским курсом выражали многие руководители производственных предприятий разных форм собственности — и директора, и предприниматели. Так, в июле 1992 года на страницах прохановской газеты «День» руководители воронежских заводов и владельцы воронежских частных производственных компаний, руководящие представители региональной ассоциации деловых кругов подписали совместное обращение, в котором содержалась критическая оценка ультралиберальным компрадорским действиям правительства. А 7 апреля 1993 года в «Независимой газете» напечатали статью генерального директора акционерного общества «ЭВМ комплекс» Владимира Ососкова, который выразил отнюдь нерадужное отношение ставке на дерегулирование экономики, на её подчинение диктату иностранного капитала. Летом 1993 года руководители разных предприятий лесопромышленной отрасли (как государственных, так и частных), тульских предприятий ВПК публиковали обращения аналогичного характера. Даже те, кого «демократы» рассматривали в качестве собственной социальной опоры, не испытывали доверия к ельцинистам. Например, участники прошедшего 4 декабря 1992 года Форума малого предпринимательства дали критическую оценку проводимому правительством курсу. А 8 апреля 1993 года «Независимая газета» писала о критическом настрое предпринимательской среды к проводимым ультралиберальным «реформам». Они выражали недовольство не только громоздкой системой налогообложения, но и устранением государства от содействия национальной экономикой.
Среди военнослужащих
Политика «демократов» встречала прохладное отношение и со стороны силовых структур, причем не только со стороны рядовых военных и правоохранителей. Так, в апреле 1992 года начальник штаба сражавшегося в Приднестровье казачьего объединения в Дубоссарах Ю. Григорьев на страницах «Советской России» выступил против попыток бросить русскоязычное население на произвол прозападного националистического режима М. Снегуры. А летом 1992 года Генштаб и Штаб Военно-Морского флота РФ публично выразили протест против продвигаемой «демократами» идеи передачи Японии Курильских островов. Весной 1993 года представители Генерального штаба Вооружённых сил опубликовали заявление, в котором выражали обеспокоенность подрывом боеспособности российской армии, а также ростом активности иностранных подлодок в морском пространстве России. Командующие флотами и рядом военных округов тоже предупреждали о перспективе полного подрыва обороноспособности. Часть руководящих работников координировавших функционирование военной и космической отраслей также выражала несогласие с курсом «западников». Например, летом 1993 года руководитель Роскосмоса писал в печати о пагубности следования в кильватере зарубежных государств. А первый заместитель министра обороны А.А. Кокошин и ряд членов бюро президиума Федерации космонавтики России предупреждали, что устранение государства от ответственности за развитие ВПК и прорывных сфер обрекает Россию на непредсказуемые последствия.
И среди сотрудников правоохранительных органов
Что касается работников правоохранительных органов, то далеко не все из них испытывали восторг по поводу деструктивных последствий горбачевско-ельцинских экспериментов, сломавших систему безопасности государства и общества, оставивших страну лицом к лицу с криминалом. Так, П.Ю. Хлебников в своей книге вспоминал разговор с одним из работников московской милиции, который жаловался по поводу лишения их возможности эффективно противодействовать организованной преступности в результате многочисленных перетурбаций ведомств, введения со времен «перестройки» специальных «законодательных» новаций. А летом 1992 года руководитель Управления Министерства безопасности по Москве и по Московской области Е.В. Савостьянов в беседе с журналистами признал, что многие его подчинённые разделяли идеи, отстаиваемые прокоммунистической и национально-патриотической печатью, как-то газетами «Правда» и «День» (после 1993 года — «Завтра»).
Многие сотрудники милиции и органов государственной безопасности били в колокол тревоги по поводу разграбления кучкой новоявленной «элитой» национальных богатств, воспрепятствования властью попыткам вывести на чистую воду крупномасштабных аферистов и коррупционеров. Например, данная тема затрагивалась начальником Главного управления по организованной преступности Михаилом Егоровым на брифинге в МВД РФ, прошедшем 29 декабря 1992 года. Он сообщил, что в 1992 году органами внутренних дел было возбуждено более 1,5 тысяч уголовных дел в отношении коррумпированных представителей властных структур. Также разоблачены 400 государственных чиновников, располагающих связями с организованными преступными группировками. В то же время Михаил Егоров отметил, что милиции зачастую приходится сталкиваться с явным и скрытым давлением при расследовании преступлений коррупционной направленности.
Следует упомянуть про прошедшее в начале января 1993 года совместное заседание коллегий Министерства безопасности и Министерства внутренних дел в здании МВД РФ. Руководители двух ведомств обсуждали первые итоги реализации указа президента России «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Совещание проходило в закрытом режиме. Тем не менее, из Центра общественных связей МВД поступила информации о части обсуждаемых сведений, не относящихся к тайне. Так, было заявлено, что в 1992 году против коррумпированных работников государственного аппарата было возбуждено 1331 уголовное дело, вскрыта деятельность 400 государственных чиновников, связанных с организованными преступными группировками. Работниками правоохранительных органов в 1992 году было выявлено 3 тысячи факта взяточничества и 5 тысяч фактов хищений в крупных размерах. На том же заседании коллегий МВД и МБ было отмечено, что, вопреки президентскому указу, во многих субъектах Российской Федерации руководящие работники управленческого аппарата связаны с коммерческими структурами, а некоторые чиновники напрямую занимаются предпринимательской деятельностью. По мнению высокопоставленных милицейских чинов и руководящих деятелей органов государственной безопасности, число подобных случаев неуклонно увеличивалось.
Также рекомендуем обратить внимание на ранее упоминавшееся нами опубликованное 25 августа 1993 года в «Независимой газете» заявление пресс-службы МВД РФ. Его авторы, иллюстрируя напряжённость криминогенной обстановки в России, развили тезис о разрушительном влиянии финансово-экономических аферистов, действовавших рука об руку с представителями коррумпированного чиновничества: Пресс-служба МВД подчеркивала, что «дальнейшее распространение получили факты хищений и незаконного вывоза за пределы России сырья и готовой продукции, металлов, энергоносителей и других стратегически важных ресурсов». В частности, удалось выявить «4,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным вывозом сырья и материалов». Пресс-служба Министерства внутренних дел также обращала внимание на неурегулированность ключевых финансово-экономических условиях как на фактор, благоприятствующий разграблению государства и общества: «Не остановлен процесс криминализации экономики. Неурегулированность вопросов собственности, контроля за законностью происхождения капиталов, используемых в ходе приватизации, разбалансированность финансово-кредитной системы, неразвитость системы налогообложения, операций с ценными бумагами и другие факторы не только осложнили экономическую ситуацию, но и стимулировали проявления экономической преступности».
Далеко не все правоохранители одобряли разгон «демократическими» властями митингов коммунистов и национал-патриотов. Так, в июне 1992 года во время препятствования проведению в Останкино пикета прокурор Москвы Г.С. Пономарев публично обозначил такую позицию, подчеркнув, что оппозиция проводит мероприятие на законной основе. А после разгона в 1993 году первомайской манифестации часть сотрудников московской милиции дала критическую оценку действиям властей и своих коллег, готовых ради «тридцати серебренников» выполнять противозаконные приказы правящих кругов. Соответствующую позицию на страницах печати обозначили подполковник милиции Н.В. Паншев и майор милиции А.Ю. Королёв. Факт отсутствия серьёзных подвижек в противодействии криминалу констатировал на прошедшем 21 сентября 1993 года брифинге начальник Главного управления обеспечения общественного порядка МВД Вячеслав Огородников. Он заявил, что за восемь месяцев 1993 года на улицах России было совершено свыше 212 тысяч преступлений (из них 2,3 тысяч убийств, более 56 тысяч грабежей, около 7 тысяч разбойных нападений, 52 тысяч краж). По словам Вячеслава Огородникова, наиболее тяжёлая ситуация фиксировалась в Москве и в Санкт-Петербурге, на улицах которых совершалось каждое третье преступление из всех зарегистрированных в стране. Он же связал происходящее с попытками власти ориентировать правоохранительные органы в основном не на борьбу с криминалом, а на наблюдение за политическими мероприятиями. Отмечалось, что улицы городов России оказались без перекрытия, особенно в вечернее и в ночное время. Руководитель Главного управления обеспечения общественного порядка МВД Вячеслав Огородников напомнил, что в 1992 году прошло свыше 4 тысяч общественно-политических мероприятий, в которых участвовало более 3 миллионов человек. В результате силы милиции оказались брошены на соблюдение за их проведением.
Все это не могло не отразиться на внутриполитической обстановке в России, в том числе на усилении оппозиционного настроя депутатского корпуса.
Продолжение следует
Михаил Чистый
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.