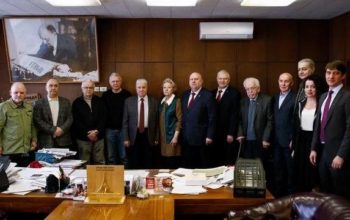По материалам публикаций на сайте газеты «Правда»
Автор — Михаил Костриков, кандидат исторических наук
Бой длился уже более двух часов, но османский флот капудан-паши Гиритли Хусейна всё никак не мог восстановить порядок. Русская эскадра появилась из-за мыса совершенно неожиданно и против всех правил атаковала сразу, не меняя походного строя. На турецких кораблях запаниковали. Сниматься с якорей времени не было, и якорные канаты рубили. Из-за неразберихи несколько кораблей допустили навал друг на друга, ломая бушприты и мачты. А в это время русский флот совершил поворот, лёг на левый галс (подставил ветру левый борт) и быстро перестраивался из трёх колонн в боевую линию.
Командир прибывшей из Средиземного моря алжирской эскадры Сеид-Али смог избежать общей свалки. Взяв инициативу на себя, он, пользуясь преимуществом в скорости хода, пытался вывести свои корабли на ветер и контратаковать авангард российского флота. Но на сближение с ними под всеми парусами уже шёл большой русский корабль, покинувший строй.
Бывалый средиземноморский капер Сеид-Али не уклонился от боя: в его распоряжении был превосходный корабль. Но вряд ли он ожидал, что его противником окажется сам 80-пушечный русский флагман. Дистанция между кораблями упала до полукабельтова (менее ста метров). Алжирец был незнаком с тактикой русского флотоводца и, по-видимому, считал, что тот решил попытать счастья в абордажном бою. Что ж, абордажная команда у Сеида-Али имелась, как и опыт пиратских схваток на Средиземном море.
Но русский корабль стремительно развернулся, и его борт заволокло дымом. Продольный залп, данный с расстояния едва ли больше пистолетного выстрела, прошил флагман алжирской эскадры со стороны носа. Бушприт и фок-мачта превратились в обломки, абордажная команда перестала существовать, а в лицо Сеиду-Али прилетел один из обломков, нанеся тяжёлое ранение.
Без поражений
Описанные выше события произошли 31 июля (11 августа по новому стилю) 1791 года в ходе генерального сражения русского Черноморского флота под командованием контр-адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова и флота Османской империи у мыса Калиакрия, расположенного на побережье Болгарии.
В начале сражения три колонны кораблей под Андреевскими флагами, ломая устои линейной тактики, вклинились между турецкими береговыми батареями и стоявшим на якоре флотом капудан-паши Хусейна. Не сделай этого Ушаков, русским кораблям пришлось бы медленно подходить со стороны открытого моря против ветра к численно превосходящему противнику. Одним манёвром русский контр-адмирал нивелировал почти двукратное превосходство противника в вымпелах и артиллерии и выиграл ветер. А растерявшийся от неожиданности Хусейн полностью утратил управление своим флотом.
Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вышел победителем из дуэли с младшим флагманом османского флота Сеидом-Али, а потом смог отбиться сразу от нескольких кораблей алжирцев, которые бросились выручать своего командира. А тем временем русские корабли своими залпами хоронили господство на Чёрном море турецкого флота, которое всего за несколько лет до этого было почти безраздельным. После разгрома у мыса Калиакрия Стамбулу потребуется почти десятилетие на полное восстановление боеспособности своих военно-морских сил.
Эта победа окончательно оформила выигрыш Российской империи в войне 1787—1791 годов с Турцией. Ясский мир постановил, что Северное Причерноморье, включая Крымский полуостров, теперь стало российской землёй.
А для 46-летнего Ф.Ф. Ушакова сражение у Калиакрии стало поистине главной жемчужиной в его короне непобедимого флотоводца. Но не единственной. Он участвовал в общей сложности в 43 морских боях, включая пять крупных. Помимо Калиакрии, это сражения у острова Фидониси (ныне печально известный Змеиный), в Керченском проливе, у мыса Тендра (Тендровская коса). Все эти названия, такие знакомые сегодня нашему слуху, для советского школьника были синонимами побед русского оружия, а в наши дни… Умолчим о печальном и назовём вместо этого пятую крупную победу Ушакова — штурм морской крепости Корфу на Ионических островах в Средиземном море.
Фёдор Фёдорович не только не уступил противнику ни разу — он не потерял в бою ни одного корабля. И ни один из русских моряков, находившихся под его командованием, не попал в плен. Таков портрет военного гения, каких в мировой истории — наперечёт. Для России это имеет особое значение, потому что дела на море у нашей сухопутной державы исторически складывались непросто: большие победы соседствуют с обидными поражениями.
Биография Ушакова неплохо изучена: о ней написана не одна научная работа и несколько художественных произведений. В 1953 году Михаил Ромм выпустил прекрасный и технически сложный для своего времени художественный фильм в двух частях: «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы».
Поэтому в посвящённой юбилею великого флотоводца статье нам не хочется повторять уже сказанное, но кажется уместным подчеркнуть, что путь уроженца Ярославской земли, выходца из семьи бедных дворян был совсем не прост. А появился на свет он 280 лет назад, 24 февраля 1745 года.
Непростая дорога к славе
Выпускник Морского кадетского корпуса Фёдор Ушаков был произведён в мичманы в 21 год, пару лет провёл на Балтийском флоте, пока в 1768 году вице-адмирал А.Н. Сенявин не решил, что талантливый и старательный офицер будет полезен ему на создававшейся в то время Азовской флотилии. На Азовском море произведённый в лейтенанты Ушаков и получил в 1770 году под своё командование первое военное судно — но ещё не корабль. Поясним, что в реалиях русского военного флота второй половины XVIII века именоваться «кораблём» могла только та боевая единица, которая была способна принять участие в линейной баталии, а это были весьма крупные суда с полным парусным вооружением и числом пушек от полусотни и более.
После нескольких лет успешной службы Ушакова перевели обратно на Балтику, а в 1780 году по протекции дочери его бывшего командира, графини Екатерины Сенявиной-Воронцовой, он оказался командиром императорской яхты. Но довольно быстро светлейший князь Г.А. Потёмкин-Таврический внял просьбам молодого капитана, и в том же году Ушаков впервые получил под своё начало полноценный линейный корабль — «Виктор», на котором участвовал в походе в Средиземное море.
Настоящим же испытанием для Ушакова стал состоявшийся в 1783 году новый перевод на юг — в Херсон. О том, как трудно создавался русский Черноморский флот, как боролись с эпидемией чумы, рассказано много, как и о том, что после начала очередной войны с Турцией свой талант флотоводца Ушакову мешали проявить ретрограды. Но вот с последним пунктом всё несколько сложнее.
Сценаристы фильма М. Ромма противопоставили Ушакову фигуру его непосредственного командира на Черноморском флоте — пожилого, излишне осторожного и безынициативного контр-адмирала Войновича. Вот только в этом советское кино погрешило против истины. Дело в том, что Марко Войнович, черногорский серб по происхождению, был едва ли не моложе Ушакова (родился, вероятно, в 1750 году). А как флотоводец он показал себя весьма неплохо, в том числе и в бою у острова Фидониси, где он командовал русской эскадрой. При этом его 66-пушечный флагман «Преображение Господне» вышел победителем из схватки с двумя турецкими 80-пушечными кораблями.
Но активные действия авангарда под командованием Ушакова обеспечили общий успех при Фидониси. Потёмкину требовались быстрые и громкие победы, а для этого просто надёжного командующего было мало. В переписке с императрицей Екатериной II князь Таврический начал обвинять Войновича в нерешительности и настаивать на замене его Ушаковым. В 1790 году он добился своего и оказался в итоге прав: победы пришли и весьма скоро.
Однако покровительство Потёмкина было вещью обоюдоострой. Чувствуя себя полновластным хозяином в русском Причерноморье, а Черноморский флот небезосновательно считая своим детищем, он крайне жёстко «опекал» своих флотоводцев. Обычно именно князь лично определял боевой состав эскадры и детально строил её маршрут. Ушакову же требовалась свобода действий для реализации его замыслов. Лишь окончательно завоевав доверие Потёмкина, он смог нанести туркам решительное поражение на море.
Ещё одной проблемой стало качество русских кораблей — оно было не просто плохим, и на этом обстоятельстве нужно остановиться подробнее. Во многих исследованиях сражений Ушакова, написанных в прошлые десятилетия, указывалось, что турецкие суда, построенные европейскими инженерами, обладали преимуществом по сравнению с русскими. Но о том, насколько оно было значительным, мало кто задумывается, потому что успехи Ушакова затмевают собой все проблемы. Однако если посмотреть на «счёт на табло», то вопросов становится больше.
Главный противник
Непосредственно в сражении у Калиакрии, с которого мы начали свой рассказ, Турция не потеряла ни одного корабля. Русские потрепали их очень сильно и рассеяли, но всё же турки смогли сбежать, даже несмотря на тяжёлые повреждения их судов. Затонул в итоге только изрешечённый кораблём Ушакова флагман Сеида-Али. Причём это случилось уже на рейде Стамбула, куда он всё же сумел добраться. В сражениях у Фидониси и в Керченском проливе среди линейных кораблей турецкого флота также потерь не было: русским удавалось топить только разную мелочь. Существенными можно назвать потери турок в сражении у мыса Тендра: два их линейных корабля пошли на дно, а ещё один стал русским призом.
Конечно, отчасти это объясняется тем, что тогдашние линейные корабли обладали очень большой живучестью против актуальных на тот момент средств поражения. Деклассируют парусный линейный флот бомбические орудия, стрелявшие разрывными снарядами, но это случится только в середине XIX столетия. А в конце XVIII века стойкость парусников под обстрелом ядрами была просто поразительной: они порой держались часами!
Не каждое ядро даже могло пробить деревянный борт, толщина которого у многих линейных кораблей достигала величин от полуметра до метра. Поэтому и другой знаменитый флотоводец той эпохи — британец Горацио Нельсон — тоже не может похвастать множеством потопленных вражеских судов. В знаменитом Абукирском сражении 1798 года один корабль его противников — французов — затонул, а ещё один взорвался вследствие начавшегося пожара. В Трафальгарском сражении корабли Нельсона потопили только один линейный корабль франко-испанского флота. Но вот число захваченных англичанами кораблей в обоих сражениях было значительным.
Русскому же флоту лишь изредка удавалось догнать и захватить одиночный и наиболее пострадавший турецкий корабль. И тому есть серьёзные причины. Современный исследователь А.А. Лебедев приводит многочисленные выдержки из документов, которые свидетельствуют о том, что качество кораблей российской постройки было, без преувеличения, ужасным.
Так, 5 августа 1798 года Ушаков сообщал вице-президенту Адмиралтейств-коллегии адмиралу Г.Г. Кушелеву о причинах плохого состояния флота: «…Корабли и фрегаты в прошлую войну строились с великой поспешностью, только чтобы поспевали на дело, и от поспешного построения не таковы крепки и несколько слабее, а частично и многие гнилости уже в членах показываются…»
В 1798 году из 11 линейных кораблей Черноморского флота состояние двух (в том числе бывшего флагмана Ушакова «Рождество Христово») оценивалось как небоеспособное, а один был непригоден к дальнему плаванию; из 17 фрегатов небоеспособными были признаны 6, а состояние ещё двух вызывало опасения. И с этим Ушаков поделать уже ничего не мог: князь Таврический гнал постройку по принципу, который в ХХ веке в нашей стране будут именовать «план по валу». В результате корпуса судов ниже ватерлинии очень быстро обрастали водорослями и ракушками, что снижало их скорость, а потом просто начинали гнить.
Судьба линейного корабля «Рождество Христово», к слову, вполне типична для русского Черноморского флота того времени. Под именем «Иосиф II» его спустили на воду в 1787 году, и он как раз успел на очередную русско-турецкую войну. В 1790-м он сменил название. Последний раз герой сражения у мыса Калиакрия вышел в море осенью 1794 года, а в 1800-м был разобран за ветхостью.
Другой флагман Ушакова, «Святой Павел», был спущен на воду в 1784 году. Его активная служба тоже заняла менее десяти лет, и после 1794 года он также был разобран. Знающий читатель непременно задаст вопрос: но как же тогда Ушаков мог быть на «Святом Павле» при штурме Корфу? Ответ прост: это был уже другой корабль — 80-пушечный, постройки 1794 года. И его служба тоже была не очень долгой: после 1805-го он не выходил в открытое море, а в 1810-м его постигла всё та же печальная участь.
Проблема была настолько острой, что во время Средиземноморского похода 1798—1800 годов Ушаков в ответ на переданное ему требование императора Павла I отправить два фрегата в Александрию на помощь англичанам 16 июля 1799 года писал послу России в Турции В.С. Томаре: «Ежели из них который будет послан, возвратиться никак уже не может и никакой надежды нет, чтобы осень и зиму могли в тамошних местах выдержать при ветхости их. Имеют они на себе претяжёлую артиллерию, и она при первой большой качке непременно их разломает».
Для сравнения приведём британские суда, при постройке которых принимались меры для защиты от гнили. Герой Трафальгарского сражения, прорвавший линию французского флота, 100-пушечный линейный корабль «Ройял Соверен» был спущен на воду в 1786 году и активную службу нёс до 1825-го. А флагман Нельсона, на котором адмирал был смертельно ранен, «Виктори», спустили на воду в 1765 году, он служил как боевой корабль до 1812-го, а в наши дни он, установленный в старый осушенный док, благополучно «работает» музеем в Портсмуте и готовится отметить своё 260-летие. Примеров британских парусных линейных кораблей, которые оставались на активной службе десятки лет, немало.
Одной только спешкой при постройке беду с качеством боевых кораблей в Российской империи не объяснить, потому что она наблюдалась не только на новом Черноморском флоте, но и на Балтийском, основанном ещё Петром I. Так, построенный на основе проекта английского «Виктори», 100-пушечный «Ростислав» прослужил с 1784 года по 1802-й, после чего с рейда уже выходить не мог и был разобран в 1805-м. Однотипный ему «Двенадцать апостолов», спущенный на воду на четыре года позже, покинул состав флота уже в 1802-м.
В чём же причины проблемы с качеством российских кораблей помимо спешного строительства? Глубинной причиной стало намечавшееся технологическое отставание Российской империи. В целом оно было тогда ещё слабо заметно, но в самых передовых на тот момент отраслях, например в судостроении, уже давало о себе знать. Была и ещё одна причина, и она нам хорошо знакома и сегодня.
Для автора этих строк было поразительно читать донесения Ушакова о многочисленных случаях обрывов канатов на судах. Дело в том, что ещё в XVI—XVII веках русские канаты считались очень качественными и по этой причине со времён Ивана Грозного поставлялись в больших количествах для нужд английского флота. И вот в конце XVIII столетия оказалось, что снасти на русских кораблях лопаются, причём даже не в шторм. Что же случилось? А случилось то, что сегодня именуется «освоением бюджетов». «Успешные люди» создавали себе состояния на военных поставках, мало заботясь об их качестве, а расплачивались за это русские армия и флот, зачастую в бою — кровью и жизнями.
Вот ещё один противник, с которым столкнулся Ушаков, — казнокрадство российской бюрократии. И одолеть его флотоводцу было не по силам. Из-за коррупции страдало не только качество кораблей. В целом снабжение Черноморского флота было из рук вон плохим. Когда в фильме М. Ромма мы видим, как русский адмирал приказывает отдать на нужды подчинённых своё жалованье за несколько месяцев вперёд, — это не авторское преувеличение. Не только сам адмирал, но и его офицеры «скидывались» на покупку для своих кораблей и их команд самого необходимого, чего государство им обеспечить оказалось не в состоянии, несмотря на баснословное богатство правящего класса.
Кто-то скажет, что автор, упоминая об этом, усиленно намекает на день сегодняшний. Но мы лишь приводим факты, а сделать выводы читатель вполне может и самостоятельно.
Победы для России были добыты Ушаковым благодаря его самоотверженности, компетентности как флотоводца и его огромному природному таланту. Его новаторские тактические приёмы стали ключом к успеху. Но спустя полвека П.С. Нахимову уже не хватит тех же качеств, чтобы компенсировать углубившиеся внутренние проблемы Российской империи: даже ценой собственной жизни Павел Степанович не сможет помочь своей стране избежать унизительного поражения в Крымской войне.
Но вернёмся всё же к Ушакову и подробнее посмотрим, в чём же именно заключалось его новаторство как флотоводца.
Линейная тактика: марксистский разбор
Так называемая линейная тактика, господствовавшая в XVIII столетии в сражениях как на суше, так и на море, с точки зрения дня сегодняшнего выглядит дико. Да и как иначе современный человек может оценить способ ведения боя, когда армии и флоты противников выстраивались друг против друга, сходились на дистанцию пары сотен, а то и меньше, шагов и методично друг друга расстреливали? Линейная тактика почти всегда подвергалась критике и в произведениях, посвящённых биографии адмирала Ушакова, который предстаёт новатором, сломавшим её. Но, как водится, не всё так просто.
Пожалуй, первый серьёзный анализ закономерности появления линейной тактики мы находим в небольшой статье Фридриха Энгельса «Тактика пехоты и её материальные основы 1700—1870 гг.». Он сделал вывод, что подобный строй «представлял собой неизбежное следствие совместного действия двух материальных факторов. Одним из этих факторов был людской состав навербованного монархами войска, которое отчасти составлялось даже из вражеских, насильно зачисленных в армию военнопленных, — оно было хорошо вымуштровано, но ненадёжно, и только палка держала его в повиновении. Вторым фактором являлось вооружение — неуклюжие тяжёлые пушки и гладкоствольное, быстро, но плохо стрелявшее кремнёвое ружьё со штыком».
Как видно из названия, Энгельс рассматривал сухопутную армию, но те же факторы, особенно технический, действовали и в отношении флота. Вооружение XVIII века базировалось на тогдашнем уровне развития производительных сил. А он мог обеспечить массовое изготовление огнестрельного оружия, которое было эффективным только при стрельбе почти в упор. Неточность компенсировалась высокой плотностью огня, что вынуждало прибегать к тесному построению как на суше, так и на море.
Нельзя также забывать и об управлении войсками. А оно опять же могло быть эффективным только тогда, когда армии и флоты были расположены сравнительно компактно. И дело не только в том, что приказания приходилось отдавать с нарочным, а на флоте — при помощи флагов. Ещё одной причиной было отсутствие бездымного пороха, который получит распространение только на рубеже XIX—XX веков. А до этого после первых же ружейных и пушечных залпов поле боя заволакивало дымом. И как прикажете в таком случае полководцу сохранить управление войсками и не допустить хаоса? Тут могло помочь только «чувство плеча» в линейном построении, когда подразделения или корабли видели, что делают ближайшие соседи, и ориентировались на них.
В середине XVII века основоположниками линейной тактики на море стали англичане. В ходе англо-голландских морских войн они выстраивали свои корабли в кильватерные колонны. В те времена, когда типичный морской бой напоминал общую свалку, это стало большим прогрессом и позволило британским адмиралам одерживать победы.
На флоте линейная тактика оказалась весьма живучей. Если на суше она резко сдала позиции в ходе Французских революционных войн, то на море в модифицированном виде она возродилась в первой половине ХХ века: на смену деревянным линейным кораблям пришли броненосные линкоры и линейные крейсеры.
Ключ к победам
А как же «отмена» Ушаковым линейной тактики? Да никак. Посмотрим на ход сражения у мыса Калиакрия. Русский флот начал его, атаковав турецкий тремя походными колоннами. Но когда турки отошли от берега и стали пытаться построиться в линию, то каков был ответ Ушакова? Русский флот перестроился в линию баталии. То, что сам Ушаков из линии вышел для атаки Сеида-Али, не означало, что он разрешил другим кораблям действовать как попало, и они строго сохраняли свои места в строю.
Ни Ушаков, ни другой флотоводец-новатор — Г. Нельсон линейную тактику полностью не отменили. Другое дело, что тактический арсенал обоих адмиралов оказался гораздо богаче, чем у их современников. Но линия баталии осталась одним из приёмов ведения боя. Для Ушакова, к примеру, это было важно по той причине, что подготовка экипажей кораблей на Черноморском флоте была очень разной. Те из них, что давно были под началом Фёдора Фёдоровича, обладали высокой выучкой и дисциплиной. Но для более слабо подготовленных команд, чтобы их корабль не потерял своё место в бою, спасением оказывалась старое доброе построение в линию баталии.
Однако Ушаков, как и Нельсон, умел в нужный момент от линейного построения отступить, перейдя к манёвренной тактике и выделению части сил в виде мобильного резерва для создания преимущества в решающем месте сражения. Это действительно стало новинкой. Но при энергичном маневрировании важно было сохранить управление флотом, а такое в ту эпоху мало кому удавалось, кроме этих двух великих флотоводцев.
Порой можно столкнуться со спорами над тем, кто же из них — Нельсон или Ушаков — был первым в пересмотре незыблемых основ линейной тактики в морских сражениях. Спор этот имеет мало смысла. Каждый из них шёл своим путём, но в одном направлении. Пересеклись же морские силы России и Великобритании только на короткое время в период Средиземноморского похода русской эскадры 1798—1800 годов. Наиболее вероятно, что Ушаков и Нельсон крайне мало знали о тактике друг друга: в те времена передача информации была очень затруднена.
Кроме того, линейную тактику пытались ломать уже в момент её утверждения в XVII веке. Мало кому это тогда приносило успех, но вот у выдающегося нидерландского флотоводца Михила де Рёйтера получалось. Это позволило ему одержать ряд побед над английским флотом. Впрочем, и поражения у него тоже случались. Отмечают историки и выделение де Рёйтером манёвренного резерва, и его предпочтение вести артиллерийскую дуэль на предельно малых дистанциях.
К последнему в ту эпоху стремились многие флотоводцы по причине, о которой мы сказали выше: низкие характеристики тогдашней артиллерии. Именно на самых коротких дистанциях предписывали действовать капитанам документы британского морского ведомства XVIII века.
Однако сойтись на расстояние картечного выстрела было полдела. Далее вступал в силу такой фактор, как умение экипажей поддерживать непрерывный сосредоточенный огонь в как можно более высоком темпе. И Ушаков, и Нельсон добивались от своих канониров высочайшего уровня подготовки. На один залп французов англичане отвечали двумя-тремя своими; испанские моряки проигрывали им ещё больше. Превосходство подчинённых Ушакова над турками в этом компоненте было и вовсе подавляющим: большинство экипажей османского флота были способны дать один-два залпа в начале сражения, причём с большой дальности, что делало их неэффективными. А потом турки начинали палить как попало в ответ на дружные залпы с кораблей русского флота.
Ключевую роль мастерство ушаковских канониров сыграло в штурме крепостей на островах Видо и Корфу 18—20 февраля 1799 года. На неискушённый взгляд, деревянные корабли должны были вчистую проиграть артиллерийскую дуэль батареям, расположенным в каменных укреплениях. Да в общем-то оборонявшие крепости французы были вполне в себе уверены. Но практика жестоко развеяла эту уверенность.
Артиллерия на линейных кораблях располагалась компактно — на двух-трёх палубах. Это давало очень высокую плотность огня, которую не могли обеспечить пушки в крепостях. В сочетании с этим высокий темп стрельбы, который поддерживали русские канониры, позволил подавить огонь береговых батарей и прикрыть высадку десанта, который по численности даже не превосходил оборонявшихся.
Выше мы упоминали о выдающихся человеческих качествах Фёдора Фёдоровича. Особенно ярко они проявились именно в Средиземноморском походе и не только в заботе о подчинённых. После освобождения Ионических островов русский дворянин и адмирал лично написал текст конституции для созданной Республики Семи Соединённых Островов. В то время как на его родине, в России, первая конституция появится только в 1918 году и будет уже советской…
Не приходится удивляться, что такие свершения в столице Российской империи не очень-то оценили. 14 августа 1799 года в письме послу В.С. Томаре Ушаков признался: «…За Корфу я и слова благодарственного никакого не получил…» В 1802 году выдающегося флотоводца перевели на Балтику, где он начинал свой путь морского офицера, и назначили командиром… гребного флота. В 1807 году, так и не дождавшись возвращения на командование главными морскими силами, он вышел в отставку. В истории Ф.Ф. Ушаков остался не только как опередивший своё время в военно-морском деле, но и как человек, который сумел быть гуманистом в век угнетения. Согласитесь, что такое удавалось очень немногим.
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.