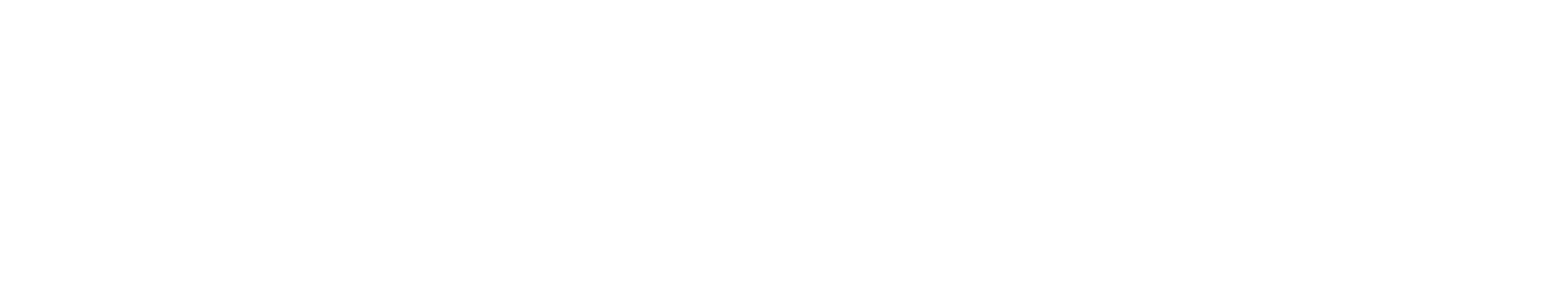По материалам публикации на сайте газеты «Правда».
Автор: Руслан СЕМЯШКИН.

Шестьдесят пять лет назад, во второй половине мая 1960 года, Арсений Григорьевич Зверев уходил на заслуженный отдых. Заканчивалась его многолетняя, растянувшаяся более чем на два десятилетия вахта на посту министра финансов СССР. Один из наиболее одарённых руководителей всесоюзного масштаба, обладавший высочайшим интеллектом, практическими знаниями и богатейшим управленческим опытом, незаурядный сталинский выдвиженец, навсегда покидал ответственнейшее государственное поприще. Легендарный нарком готовился жить в новом для него качестве персонального пенсионера союзного значения… Впрочем, это и не удивительно, выйдя на пенсию, он продолжал трудиться, занимался научно-преподавательской деятельностью под сводами Всесоюзного заочного финансово-экономического института, работал над книгой воспоминаний.
Обратиться к образу выдающегося государственного деятеля сталинской эпохи есть все основания, потому что 1 марта 2025 года исполняется сто двадцать пять лет со дня его рождения. Более того, на официальном уровне это славное имя упоминается ныне нечасто. Для сегодняшней федеральной власти фигура Зверева, разумеется, малопривлекательна: был-то ведь он сталинским наркомом, разработчиком успешной денежной реформы, жёстким управленцем, совершенно непохожим на современных финансовых воротил, категорически отрицающих возможность возвращения России на социалистический путь развития.
Естественно, говорить и писать о достижениях советского времени, тем самым невольно намекая на свою профессиональную несостоятельность, а в некоторых случаях, коих немало, и на полную профнепригодность, представителям власти и обслуживающим её борзописцам негоже. Посему-то большинство наших сограждан о Звереве ничего не знают, хотя забывать такие фамилии россиянам никак нельзя. Увы, но уж в такое неблагодарное время мы сейчас живём. Куда проще в нём продолжать вновь чернить советское прошлое. Поле-то для деятельности тут велико, что называется, невспаханная целина. Потому и слушатели вкупе с читателями, не обременяющие себя необходимостью постижения серьёзного и объективного исторического материала, у буржуазных глашатаев всегда найдутся. Да и мы, патриотично настроенные публицисты, историки, журналисты, откровенно говоря, не всегда успеваем брать инициативу в свои руки. Далеко не все советские имена удаётся поднять нам на щит…
Об Арсении Звереве можно многое рассказать. Благо, что сам он позаботился о том, чтобы оставить будущим поколениям правдивое напоминание о себе, в конце жизненного пути написав книгу воспоминаний «Записки министра». Да и жизнь прожил он большую, славную и необычайно трудную одновременно. Человек слова и дела, государственник, убеждённый коммунист, Зверев на протяжении двух десятков лет успешно и эффективно обеспечивал функционирование финансовой системы страны, базировавшейся на централизованном, через посредство государственного бюджета, распределении финансовых ресурсов, направляемых на стабильное развитие всего народно-хозяйственного комплекса Союза ССР. Именно благодаря его титаническому труду, прозорливости, способности принимать по-настоящему государственные решения, постоянному и тщательному анализу всех процессов в экономике в огромной стране была построена, доказав на практике свою жизненность, надёжная финансовая система и обеспечен действенный контроль за её работой в повседневном режиме. Финансы Зверев прежде всего рассматривал в качестве инструмента в деле государственного учёта и контроля за хозяйственной деятельностью отраслей промышленности, их предприятий и организаций.
Зверев занимался практической стороной вопроса о финансовом обеспечении деятельности родного социалистического государства, как бы уходя от политических процессов, поскольку в Советском Союзе министры рассматривались не как политики, а как руководители вверенных им в управление отраслей и сфер жизнедеятельности. Тем не менее он мыслил и действовал, исходя из политических обстоятельств, складывавшихся в стране и мире. Этого от него требовали партия, Сталин, другие высшие должностные лица, как и сама повседневная жизнь. Приведу в связи с этим характерную мысль Арсения Григорьевича, высказанную им в своих мемуарах:
«Мне известны экономисты, которые, отлично владея математическим аппаратом (а это — превосходно!), готовы предложить вам на любой случай жизни математическую «модель поведения». В ней будут учтены любые возможные повороты экономической ситуации, любые перемены в масштабах, темпах и формах хозяйственно-технического развития. Недостаёт там порой лишь одного: политического подхода. Искусством вкладывать в ленту электронно-счётной машины задание, обобщающее на будущее все мыслимые и немыслимые зигзаги внутреннего и международного развития с учётом и техники, и экономики, и политики, и психологии широких народных масс, и поведения стоящих у государственного руля личностей, мы пока ещё, увы, не овладели. Приходится намечать лишь наиболее вероятный аспект развития. А он не тождествен математической модели…
Как известно, Коммунистическая партия отвергла возможность получения иностранных займов на грабительских условиях, а на «человеческих» капиталисты не хотели их нам давать. Таким образом, обычные для буржуазного мира методы создания накоплений, необходимых для реконструкции всего хозяйства, в СССР не применялись. Единственным источником создания подобных ресурсов стали у нас внутренние накопления: от торгового оборота, от снижения себестоимости продукции, от режима экономии, от использования трудовых сбережений советских людей и так далее. Советское государство открывало нам здесь различные возможности, которые присущи только социалистическому строю».
Слова эти настолько контрастируют с днём сегодняшним, что и вдаваться в их суть практически нет никакой надобности. Да и различие между плановым социалистическим хозяйством СССР и пришедшими ему на смену рыночными колебаниями, постоянно сотрясающими современную Россию, что называется, налицо. Потому-то и находится Россия наша в таком нестабильном, не отвечающем мировым вызовам и чаяниям большинства населения страны состоянии.
Не мобилизованы до сих пор в общегосударственном масштабе и в полном объёме людские, природные, научно-технические, производственные ресурсы. Не определена и общенациональная стратегия. Нет у нас в стране и социалистической государственной идеологии, чему несказанно рады злобствующие либералы. Не собраны в кулак и управленческие силы, ставящие государственные интересы выше личных, корпоративных, клановых и иных, не имеющих ничего общего с теми, которые можно отнести к народным.
Да и разве можно сравнивать сегодняшних вездесущих «менеджеров» Силуанова и Набиуллину и сталинского министра-государственника Зверева? Величины это несопоставимые. Но при этом основное противоречие заключается в другом: как представляют ныне одни, а ранее понимали и претворяли на практике их давние предшественники всё то, что мы вкладываем в понятие о национальной независимости и суверенитете? Думается, ответ очевиден, как очевидно появление и куда более принципиальных вопросов: а что стало бы со страной, не будь в её руководящей обойме таких управленцев, как Зверев, Косыгин, Устинов, Байбаков и других? Всех тех, кого выпестовал гений Сталина? Всех тех, кто служил социалистическому Отечеству самозабвенно, истово, на пределе физических сил и возможностей?
Представить возможный ход событий, тем более с учётом до сих пор основательно не изученного урока, преподнесённого народу в 1991 году, не так уж и трудно. Вместе с тем совсем не хочется представлять и всего того ужасающего, к чему мы могли бы в конечном итоге прийти, безропотно и невольно следуя курсу либеральных, чётко ориентированных на Запад поводырей.
Но вернёмся к Звереву, который в действительности был ярким и неординарным воплощением своего времени. Времени великих потрясений и перемен, пришедших на российскую землю вместе с победоносной поступью Великого Октября.
Выходец из многодетной семьи рабочего из Московской области, он в двенадцатилетнем возрасте начнёт трудовую деятельность на текстильных фабриках родного края, а с 1917 года будет трудиться на Трёхгорной мануфактуре в Москве. Затем Зверев добровольцем уйдёт в Красную Армию, станет курсантом Оренбургского кавалерийского училища, получит боевой опыт в ходе разгрома банд Антонова. Демобилизовавшись, он унесёт с собой «рану от бандитской пули и боевой орден». В 1919 году Зверев вступит в ряды Компартии.
В 1922—1923 годах Арсений Григорьевич работал старшим уездным инспектором по продовольственным заготовкам. Назначение в продовольственный комитет города Клина он тогда воспримет как ответственное партийное поручение — борьба за хлеб разворачивалась на самом деле нешуточная, не раз приходилось рисковать ему самой жизнью.
Советская власть, укреплявшая тогда свои позиции по всем фронтам, активно, не в пример современным менеджерам в центре и на местах, более напоминающим временщиков, заботящихся лишь о собственном благополучии, занималась подбором и расстановкой кадров. Среди таковых, вовремя замеченных и отмеченных в плане наличия деловых качеств, работоспособности и огромного желания основательно вникнуть в глубинные процессы, происходившие в молодом рабоче-крестьянском государстве, окажется и Зверев. Его отправят на учёбу в Московский финансовый институт.
Так, по существу, и начнётся многолетнее служение Зверева финансовой системе, потребовавшей от него пройти ступенями профессионального роста. В первой половине 1930-х годов он будет работать заведующим окружным финансовым отделом в Брянске и заведовать Бауманским районным финотделом Москвы. Недолго Зверев потрудится и в должности председателя Молотовского райисполкома столицы.
В 1937 году Зверева, недавно избранного первым секретарём Молотовского райкома ВКП(б), неожиданно назначат заместителем наркома финансов, а через каких-то три месяца уже и наркомом финансов СССР. Тут-то и скажется сталинский подход в работе с кадрами. А вождь, как известно, не чурался выдвигать на ключевые партийные и государственные посты тех, кто ещё не успел себя толком проявить и зарекомендовать. Впрочем, Иосифу Виссарионовичу хватало и проницательности, и осмотрительности, и бдительности, и какого-то особо всеохватного чутья, дабы безошибочно выявлять таких претендентов. Знал он прекрасно и то, как их беспристрастно проверять в практических делах. Они, разумеется, в те годы и были на первом плане.
Потому-то не до праздных разглагольствований и пустых заявлений стало ему на новом поприще. Справедливости ради, в пустозвонстве и фразёрстве Зверева не обвиняли и ранее. Не практиковали в то время и проведение бестолковых пресс-конференций, посвящённых мифическим ста или пятистам дням нахождения того или иного руководителя в должности. Да и каждодневные дела требовали от руководящих кадров и ответственных исполнителей не болтовни, а полной самоотдачи. Вот и пришлось Звереву тогда столкнуться с целым рядом очень непростых вопросов, которые он пытался поднять и решать, благо к нему практически всегда прислушивались и в ЦК ВКП(б).
Но и партия строго следила за деятельностью наркомата, направляя последний на поддержание режима экономии, на недопущение необоснованных финансовых потерь, на усиление воспитательной работы с нерадивыми и неумелыми хозяйственными руководителями. О роли партии в организации работы возглавляемого им наркомата финансов Зверев годы спустя вспоминал: «ЦК ВКП(б) требовал от сотрудников наркомата знания состояния дел не только в экономике, но и в стране в целом, ибо на той или иной стадии каждое мероприятие упирается в его материальное обеспечение. ЦК партии подходил здесь к вопросам как рачительный хозяин. Партия постоянно направляла наркомат финансов на решение нашей ведомственной триединой задачи: накопление средств — разумная их трата — контроль рублём».
Большим испытанием на профессиональную состоятельность для Зверева станет Великая Отечественная война. Крайне нелегко пришлось ему трудиться на её начальном этапе. Необходимо было изыскать и незамедлительно мобилизовать колоссальные средства для связанных с ведением войны нужд. Соответственно, Звереву предстояло перестраивать финансовую систему на военный лад, с чем он успешно и в максимально короткие временные сроки справился.
Благодаря самому Арсению Григорьевичу, а также слаженной работе подконтрольных ему учреждений на протяжении всей войны и фронт, и тыл бесперебойно обеспечивались денежными средствами и материальными ресурсами. Финансы в те огненные годы использовались рационально, экономно, распределение их было лимитировано и подчинено главной задаче — скорейшей победе над ненавистным врагом.
Удалось Звереву сохранить и принципиальные основы функционирования финансовой системы, не претерпевшей коренных изменений и не пытавшейся устоять лишь за счёт включения печатного станка. Смог Зверев сделать практически бездефицитным государственный бюджет. В целом же такой финансовой стабильности, которая была обеспечена в СССР правительством и непосредственно Зверевым, в годы Второй мировой войны не имело ни одно из воюющих государств. «Денежная система СССР выдержала испытание войной», — с гордостью отрапортует нарком Сталину после долгожданной Победы. Нет никаких оснований и спустя восемьдесят лет с этим высказыванием Зверева не соглашаться.
О взаимоотношениях главного финансиста страны и Сталина следует рассказать более подробно. Были они непростыми, как может показаться на первый взгляд. К тому же сейчас в обществе распространено измышление о том, что вождь не допускал пререканий и иного, не им сформулированного мнения. Это не так. И Сталин слушать умел, ценя в собеседниках здравомыслие и узкопрофессиональные знания, не раз отдавая им предпочтение, ставя их в основе принимаемых коллективных решений. И Зверев не был безропотным исполнителем, напрочь лишённым решительности и смелости, необходимых для того, чтобы перечить вождю. Неуступчивость его, напористость и нежелание отказываться от собственной аргументированной позиции по тому или иному вопросу Сталину были известны. Да и в полемизировании с наркомом Иосиф Виссарионович всегда видел толк. В тех их совместных беседах и рождались выверенные государственные решения.
Пришлось Звереву в рекордно короткие сроки реализовать сталинские политико-экономические задумки. За одну неделю, после навсегда запомнившегося ему ночного звонка вождя, случившегося ещё в декабре 1943 года и послужившего началом к подготовительной работе по проведению денежной реформы, державшейся до поры до времени в секрете, он в декабре 1947 года без серьёзных потрясений изымет из оборота три четверти денежной массы, имевшейся в стране. Произведённый обмен наличности из расчёта 10 рублей к 1 новому рублю имел тогда большое практическое значение. Ударил он и по спекулянтам, сумевшим нажиться в трудные годы войны и побоявшимся в ходе обмена показывать свои незаконно нажитые сбережения. Помог он избавиться и от бывших в хождении фальшивых банкнот, заброшенных в СССР фашистами. Обмену тогда же подлежали и облигации государственных займов.
Итогом денежной реформы 1947 года стала и отмена карточной системы. Были установлены единые государственные розничные цены на продовольственные и промышленные товары, наметился рост их поступления в продажу. Финансовая ситуация в стране заметно улучшилась, рубль укрепился (позже Зверев переведёт его на золотую основу, приравненную к 0,22 грамма чистого золота), продукция стала дешеветь, сократился и внутренний долг государства.
Закладывалась экономическая база и для организации до сих пор поминаемого в народе добром ежегодного сталинского снижения цен. По прошествии же многих лет сам Зверев так отзовётся о той грандиозной сталинской кампании: «Успешное экономическое и социальное развитие страны после проведения денежной реформы явилось убедительным подтверждением её своевременности, обоснованности и целесообразности. В итоге денежной реформы в основном были ликвидированы последствия Второй мировой войны в области экономики, финансов и денежного обращения, восстановлен полноценный рубль в стране».
К 1950 году национальный доход в СССР вырастет практически вдвое. Реальный уровень средней зарплаты будет иметь рост в 2,5 раза и превысит тем самым довоенные показатели. Заметно пойдёт ввысь и процесс потребления товаров, что будет свидетельствовать о постепенном улучшении благосостояния граждан. И это при том, что все государственные силы и средства бросались на ликвидацию последствий войны. По сути, в принятии эффективных мер по обеспечению улучшения жизни граждан СССР будет опережать и западные страны. Даст наша держава фору капиталистам и по росту объёмов производства. Преимущества социализма для мировой общественности в то время становятся всё очевиднее.
Первого марта 1950 года «Правда» опубликует Постановление Советского правительства, не в пример сегодняшним финансовым институтам России бившее наотмашь по капиталистическому миру. В постановляющей части этого важнейшего документа указывалось:
«1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.
2. Установить золотое содержание рубля в 0,222168 грамма чистого золота.
3. Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота.
4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:4 руб. за один американский доллар вместо существующего — 5 р. 30 коп.; 11 руб. 20 коп. за один фунт стерлингов вместо существующего — 14 р. 84 коп.
Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам. В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов Госбанку СССР установить курс рубля в отношении к иностранным валютам с учётом этих изменений».
Вот вам и наглядный пример подлинной государственной заботы о финансовой системе страны. Не слепое следование западным ориентирам, а сталинский решительный отказ использовать доллар в оценке товаров и в расширявшейся тогда международной торговле. Что ж, советский лидер мог в действительности диктовать миру такие условия. Были у него и способные исполнители подобных решений. Финансовый механизм, находившийся в те годы в руках профессионала с большой буквы Зверева, работал без проволочек и сбоев. Рубль советский был надёжной и стабильной валютой.
После XIX съезда партии в её руководстве ведущую роль стали занимать в том числе и те коммунисты, которые прошли суровую школу работы в правительстве во время Великой Отечественной войны и в трудные послевоенные годы, когда страна вынуждена была направлять все свои усилия на организацию действенных мер по скорейшему восстановлению народного хозяйства. В той партийной команде окажется и Арсений Зверев, избранный тогда же кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. По сути, именно на таких волевых, несгибаемых и способных принимать выверенные решения руководителей и делал ставку Иосиф Виссарионович. Им намеревался он передать в руки дело всей своей жизни. В них видел он последовательных продолжателей начатого им грандиозного социалистического строительства.
Немаловажно отметить и то, что в высших эшелонах советского государственного организма в то время закреплялась определённая Сталиным практика по чёткому разграничению ключевых партийных и государственных должностей. Так, на Пленуме ЦК КПСС 16 октября 1952 года Сталин говорил: «Спрашивают, почему мы освободили от важных постов министров видных партийных и государственных деятелей. Что можно сказать на этот счёт? Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили новыми работниками. Почему? На каком основании? Работа министров — это мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных, инициативных работников».
Безусловно, это был хорошо продуманный и в стратегическом отношении правильный шаг. Управление экономикой требовало чёткого планирования и полной самоотдачи тех, кому партия поручала возглавлять конкретные народнохозяйственные комплексы. К работе же Зверева данные нововведения практически не относились. Не было к нему и больших нареканий. Он в полной мере соответствовал занимаемой должности. В ЦК считались и с его профессионализмом. Воспринимались и его практические знания в области финансового дела.
Не было к Звереву претензий и после того, как Сталина не стало. Министр продолжал каждодневно и напряжённо трудиться. Наработанный им фундамент был крепок, финансовая система страны стабильно выполняла свои функции.
Но, к сожалению, с годами стало подводить здоровье. Сказывалось многолетнее перенапряжение физических и духовных сил. Хрущёвскую денежную реформу 1961 года Звереву осуществлять уже не пришлось. Доподлинно неизвестно и то, какие складывались к концу пятидесятых годов прошлого столетия у них отношения. По крайней мере, некоторые историки склоняются к мысли о том, что министр финансов к Хрущёву большого уважения не испытывал. Якобы накапливалось у него к нему и недовольство за непродуманные действия в экономике, осуществлявшиеся тогда на популистской основе. Впрочем, коммунист Зверев, воспитанный в строгом следовании генеральной линии партии, естественно, публичных резких высказываний в адрес первых лиц партии и государства себе не позволял.
Постигнув все тонкости, связанные с организацией финансовой системы в социалистическом государстве, в последние годы жизни доктор экономических наук Зверев старался их передавать тем, кто шёл ему и его поколению на смену. Работал он по-прежнему много, стараясь реализовать всё задуманное.
Пятьдесят пять лет прошло с того летнего июльского дня, когда генеральный государственный советник финансовой службы, многолетний член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР четырёх созывов, кавалер четырёх орденов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды Арсений Зверев навсегда упокоился на Новодевичьем кладбище. Нет больше и того государства, которому он долгие годы искренне и беззаветно служил. Оболгали и те духовные ценности, которым он по жизни следовал. Ушаты грязи вылили и продолжают выливать также и на Сталина, заметившего и выдвинувшего Зверева на государственные и партийные высоты. Всё в жизни народной перевернулось вверх дном… Такого поворота событий Арсений Григорьевич не мог себе представить даже и в самом страшном сне.
Рано или поздно, но историческая справедливость обязательно восторжествует. Бездари, проходимцы, мздоимцы, напрочь лишённые каких-либо профессиональных знаний и чувства ответственности за интересы государства, под напором здоровых, трезвомыслящих, патриотично настроенных сил нашего общества вынуждены будут уйти. Вместе с ними в небытие направятся и другие либерально озабоченные подпевалы, пока что продолжающие вести свою мерзкую русофобскую и антисоветскую пропаганду, а также иезуитски бороться с нашей историей, под «благовидными» предлогами демонтировать памятники Ленину, драпировать фанерой его Мавзолей на Красной площади в Москве, переименовывать улицы, носящие имена видных революционеров и советских партийных и государственных руководителей. Вот тогда-то вновь и засияют славные советские имена, среди которых заметное место принадлежит и выдающемуся сталинскому наркому Арсению Звереву, память о котором должна непременно сохраниться.
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.