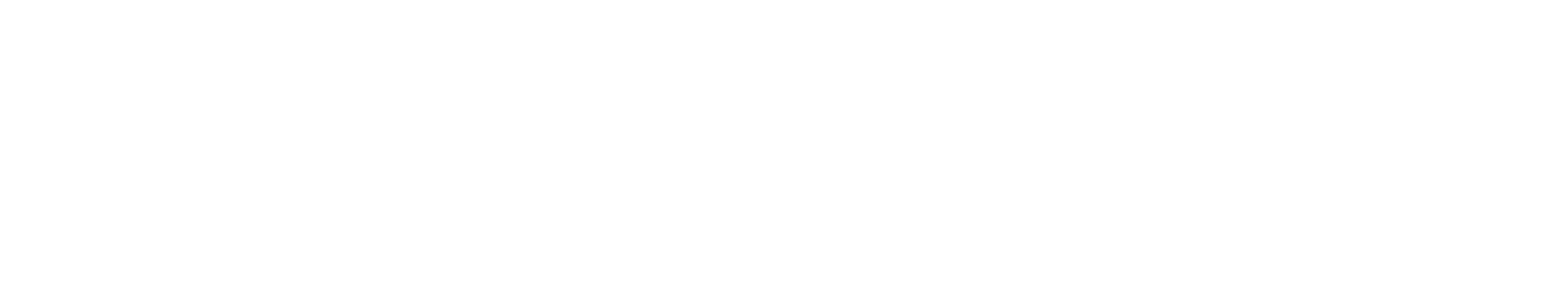Публикуем материал, размещённый на сайте газеты «Правда».
«Картины Крамского памятны всем…— писал в книге «Далёкое близкое» о своём друге, собрате по искусству, создателе и вдохновителе Товарищества передвижных художественных выставок Илья Ефимович Репин. — На скамейке старого парка дама, освещённая луной, где-то на юге. «Неизвестная» в коляске, заинтриговавшая всех… И, наконец, последняя его картина — «Неутешное горе». Такое глубокое, потрясающее впечатление произвела на всех эта картина! Странно: казалось даже, что это не картина, а реальная действительность. Эту даму жалко было, как живого человека… Но главный и самый большой труд его — это портреты, портреты, портреты. Много он их написал и как серьёзно, с какой выдержкой! Это ужасный, убийственный труд. Могу сказать это по некоторому собственному опыту. Нет тяжелее труда, как заказные портреты! И, каких бы художник ни положил усилий, какого бы сходства он ни добился, портретом никогда не будут довольны вполне…»
СКОЛЬКО ВСЕГО изображений лиц самых разных людей — поэтов, живописцев, учёных, музыкантов, артистов — вышло из-под кисти Ивана Николаевича Крамского за его не очень долгую жизнь, точно теперь никто не скажет, тем более что этого не знал и сам художник. «Потом пошли — портреты, портреты и портреты, и карандашом, и красками, и чем попало, — посетовал он в своей автобиографии. — Сколько их и где они — не помню и не знаю, потому что я, в качестве русского, в этом отношении никуда не годный человек: всегда хотел вести счёт, записать, что, кому и когда сделано, даже несколько раз давал искреннее слово снимать фотографии, и, должно быть, обстоятельства выше намерений».
И всё-таки именно портрет был любимым жанром Крамского. «Я всегда любил человеческую голову, — признавался Иван Николаевич, — всматривался и когда не работаю… и чувствую, наступает время, что я понимаю, из чего это Господь Бог складывает то, что мы называем душою, выражением, небесным взглядом и всякой другой чепухой…» А вот ещё: «Для меня портрет менее всего «посадил — написал»: для меня портрет — мысли мучительные и заветные, боль душевная, стремление осознать мир и время, в которых человек живёт».
…На лето Крамской всегда старался вырваться из душного и жаркого Петербурга куда-нибудь на природу, чтобы поработать там вволю, от души, — писать маслом кого-либо из друзей или родных, тех, кто был ему близок, дорог и интересен. На сей раз он выбрал окрестности Тулы — вместе с Иваном Шишкиным и Константином Савицким поселился в просторном старом барском доме рядом с железнодорожной станцией Козловка-Засека и буквально за несколько сеансов создал превосходный портрет знаменитого «певца леса»: Шишкин изображён в полный рост в дорожном пальто и высоких сапогах, опирающимся на палку, на фоне высокого голубого неба с плывущими по нему лёгкими облаками, плотной стены леса и полевых цветов; мудрый и ясный его взгляд, волевое открытое лицо, пышная борода и богатырские плечи как нельзя более точно передают образ этого влюблённого в красоту природы созерцателя, реалиста и романтика.
И всё же главный свой замысел Крамской до поры до времени скрывал от всех. Лишь Павел Михайлович Третьяков, прознав, что тот снял дачу всего в пяти верстах от Ясной Поляны, имения Льва Николаевича Толстого, разволновался, ведь он давно мечтал заполучить для своей картинной галереи портрет творца «Войны и мира», через поэта Афанасия Фета, дружившего с писателем, несколько лет назад даже «подкатывался» к нему с просьбой попозировать кому-нибудь из художников, но получил в ответ категорический отказ. А тут, оказывается, его мечта и творческие планы Крамского совпали! И вот в Козловку мчится полное противоречивых эмоций письмо от Третьякова: «Сама судьба благоволит нашему предприятию, я только думал, «как бы хорошо Ивану Николаевичу проехать в Ясную Поляну», а Вы уже там! Дай Бог Вам успеть! Хотя мало надежды имею, но прошу Вас, сделайте одолжение для меня, употребите всё ваше могущество, чтобы добыть этот портрет».
И вот Крамской с этюдником на плече отправляется к Толстому. Увы, его постигла неудача: писатель в отъезде, будет у себя в усадьбе только к концу лета… А пока в записную книжку Крамского ложатся следующие строки: «Граф Л.Н. Толстой живёт, Тульской губернии и уезда, в деревне Ясная Поляна, в расстоянии от Тулы 13—14 вёрст, по шоссе. Реки возле и даже поблизости — нет, а в усадьбе превосходный и большой пруд. Местность около усадьбы хорошая, но в окрестностях есть места восхитительные; много лесу, возвышенностей, и огромные горизонты. Словом, всё не дурно. Жену его зовут Софьей…»
В первых числах сентября Крамской снова в Ясной Поляне. Узнав от прислуги, что граф где-то на территории усадьбы, отправился его разыскивать. Возле одного из сараев увидел человека в крестьянской рубахе, который сноровисто колол дрова.
— Нe знаешь ли, голубчик, где Лев Николаевич?
— А вам он зачем? Это я и есть…
Крамской представился, сбивчиво изложил своё желание написать толстовский портрет, однако в ответ услышал:
— Нет, нет, этого не нужно. Но я рад вас видеть, я вас знаю. Пойдёмте ко мне…
Что было дальше, Крамской сам поспешил изложить Третьякову в письме от 5 сентября 1873 года: «Граф Лев Николаевич Толстой приехал, я с ним виделся и завтра начну портрет. Описывать Вам моё с ним свиданье я не стану, слишком долго, — разговор мой продолжался с лишком 2 часа, 4 раза я возвращался к портрету, и всё безуспешно; никакие просьбы и аргументы на него не действовали. Наконец, я начал делать уступки всевозможные и дошёл в этом до крайних пределов. Одним из последних аргументов с моей стороны был следующий: «Я слишком уважаю причины, по которым Ваше сиятельство отказываете в сеансах, чтобы дальше настаивать, и, разумеется, должен буду навсегда отказаться от надежды написать портрет, но ведь портрет Ваш должен быть и будет в галерее». — «Как так?» — «Очень просто: я, разумеется, его не напишу, и никто из моих современников, но лет через 30, 40, 50 он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно». Он задумался, но всё-таки отказал, хотя нерешительно. Чтобы наконец кончить, я начал ему делать уступки и дошёл до следующих условий, на которые он и согласился: во-первых, портрет будет написан, и, если почему-нибудь он ему не понравится, будет уничтожен, затем, время поступления его в галерею Вашу будет зависеть от воли графа, хотя и считается собственностью Вашей. Последнее обстоятельство было настолько уже безобидно для него, что он как бы сконфузился даже и должен был согласиться. А затем оказалось из дальнейшего разговора, что он бы хотел иметь портрет и для своих детей, только не знал, как это сделать, и спрашивал о копии и о согласии, наконец, впоследствии сделать её, то есть копию, которую и отдать Вам; чтобы не дать ему сделать отступление, я поспешал ему доказать, что копии точной нечего и думать получить, хотя бы и от автора, а что единственный исход из этого — это написать с натуры 2 раза совершенно самостоятельно, и уж от него будет зависеть, который оставить ему у себя и который поступит к Вам. На этом мы расстались и порешили начать сеансы завтра, то есть в четверг… Не знаю, что выйдет, но постараюсь, написать его мне хочется».
Работа Крамского над толстовскими, почти одинаковыми портретами совпала по времени с работой Толстого над романом «Анна Каренина». «Я в своей работе очень подвинулся, но едва ли кончу раньше зимы — декабря или около того, — сообщал Лев Николаевич 23—24 сентября 1873 года литературному критику Н.Н. Страхову. — Как живописцу нужно света для окончательной отделки, так и мне нужно внутреннего света, которого всегда чувствую недостаток осенью. При том же все сговорились, чтобы меня отвлекать: знакомства, охота, заседание суда в октябре, и я присяжным; и ещё живописец Крамской, который пишет мой портрет по поручению Третьякова. Уже давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня, особенно тем, что говорит: всё равно ваш портрет будет, но скверный. Это бы ещё меня не убедило, но убедила жена сделать не копию, а другой портрет для неё. И теперь он пишет, и отлично, по мнению жены и знакомых. Для меня же он интересен как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художественной натуре».
«Помню, взойду я в маленькую гостиную, посмотрю на этих двух художников, один пишет портрет Толстого, другой пишет свой роман: «Анну Каренину». Лица серьёзные, сосредоточенные, оба художники настоящие, большой величины, и в душе моей такое к ним чувствовалось уважение… — вспоминала жена Толстого Софья Андреевна. — Раз я их застала за разговором об искусстве. Они горячо спорили…»
Видать, сильно «зацепил» Крамской Толстого этими разговорами, если в «Анне Карениной» неожиданно появился новый персонаж — художник Михайлов. Своим обликом, характером, творческим почерком он — вылитый Крамской. Михайлов в толстовском романе — «портретист замечательный», который не хочет больше писать портретов, а трудится над большой картиной из жизни Христа и изображает «не Бога, а революционера или мудреца», он «без всякого образования, один из… новых людей, которые теперь часто встречаются; знаете, из тех вольнодумцев, которые… воспитаны в понятиях… отрицания и материализма». Изменив своему обету не браться больше за портреты, Михайлов написал такую Анну Каренину, что поразил всех: «Странно было, как мог Михайлов найти ту её особенную красоту. «Надо было знать и любить её, как я любил, чтобы найти это самое милое её душевное выражение», — думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое её душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его».
Вот и у Крамского Толстой, по выражению Ильи Ефимовича Репина, «страшно похож». Это же словечко — «страшно» — звучит и в письме Софьи Андреевны сестре: «Оба портрета замечательно похожи, смотреть страшно даже».
Особенно удались художнику толстовские глаза. Владимир Иванович Немирович-Данченко, известный российский и советский театральный деятель, вспоминая о своей первой встрече с Толстым, отмечал во внешнем облике писателя именно эти «знаменитые орлиные глаза — глаза мудрого и доброго хищника. Самое удивительное в его внешности. Глаза, всякому внушающие мысль, что от них, как ни виртуозничай во лжи, всё равно ничего не скроешь. Они проникают в самую глубь души. В то же время в самой их устремлённости и остроте — ничем не сдерживаемая непосредственность. Это не зоркость умного расчёта, а наоборот — простодушность в самом прекрасном смысле этого слова». Так вот, впервые эти глаза для России написал именно Крамской.
Современники приняли изображение Толстого восторженно. Репин, как рассказывали, «первый стал от него с ума сходить», а критик Владимир Васильевич Стасов ходил к Третьякову смотреть его несколько раз, потом не выдержал, рванул к Толстому… «Портрет Толстого поразил меня ещё больше, чем когда-нибудь, и ударил меня по лбу с такой силой и разбередил меня до такой степени, что я не стал больше откладывать и послал в тот же вечер условную телеграмму: «Выезжаю к Вам завтра в час». Лошади были присланы мне навстречу, и я провёл в Ясной Поляне дня полтора. Ну-с, я Вам скажу, что это за человек, что за человек — слов нет!!!» — делился он своими впечатлениями с Иваном Николаевичем Крамским.
…Через десять лет на очередной передвижной выставке взоры всех посетителей были прикованы к новой работе Крамского. «Неизвестная» — так он её назвал. Кто же прототип этой гордой красавицы, до сих пор остаётся загадкой. Но некоторые современники нашли в ней сходство с главной героиней толстовского романа.
Недавно я перечитал «Анну Каренину» и тоже поразился сходству Анны с «Неизвестной»: «С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил её принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошёл было в вагон, но почувствовал необходимость ещё раз взглянуть на неё — не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей её фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся тёмными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживлённость, которая играла в её лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею её румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял её существо, что мимо её воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке…»
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.