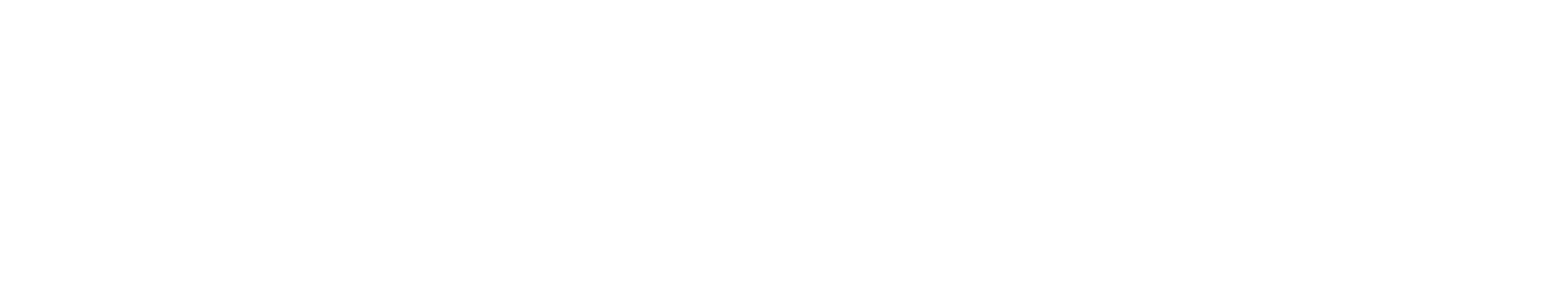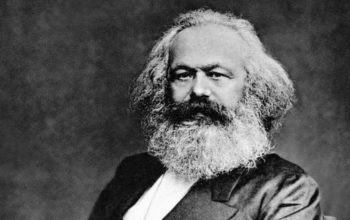Публикуем материал, размещённый на сайте газеты «Правда».
Наша революция вызревала задолго до 1917 года. И прошла она по всей стране, потому что это была в полном смысле слова народная революция.
Вот я родился и рос на Рязанщине. Городок небольшой Сапожок, потом село Можары, лесной посёлок Выша и село Купля Шацкого ныне района… С раннего детства притягивали, заставляя подолгу стоять в святом, благоговейном молчании, могилы борцов за Советскую власть.
Думалось при этом уже тогда о многом. Какие же это люди? Что за биография у них? Как погибли? Ответа на памятниках зачастую не было, а если и был, то совсем лаконичный.
Скажем, на братской могиле в Шацке читал я имя Ефима Морина. То же самое имя носила (к счастью, носит и до сих пор!) улица в этом районном городке. Я слышал, что он — революционер и убили его ещё до 1917-го, во время первой русской революции 1905—1907 годов. Но этим, увы, знания мои о том человеке исчерпывались. Разве нормально?
Неудивительно, что после окончания факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова в далёком теперь 1956-м, приехав на работу в областную молодёжную газету «Рязанский комсомолец», среди самых первых задач, которые я перед собой поставил, была такая: во что бы то ни стало разыскать сведения о погибшем революционере Ефиме Морине и обязательно рассказать про него в газете, журналистом которой я отныне стал.
Да, мысль об этом неудивительна была для меня, начинающего журналиста. Удивительным стало другое. Оказывается, родом тот самый Ефим Фёдорович Морин — из села Шаморга, которое находится буквально в трёх километрах от Купли, где я окончил среднюю школу. Более того, в Шаморге жил и живёт (во время, которое я вспоминаю) родной брат Ефима — Никита Фёдорович Морин!
Ну надо же… Давным-давно мог я встретиться с ним и поговорить «по-соседски». А теперь вот пришлось выписывать командировочное удостоверение в редакции для поездки из Рязани в Шацкий район.
Зато каким интересным получился разговор с этим бородатым стариком, радушно встретившим меня на пороге дома, где последние годы жил он в полном одиночестве. Редкостную память сохранил на подробности, и, к счастью, сохранился у него даже единственный портрет брата, написанный когда-то, при жизни его, неизвестным художником.
В общем, проговорили мы целый январский день, до позднего вечера. И возвращался я уже в темноте по льду замёрзшей и занесённой снегом Цны, на берегах которой происходили полвека назад драматические и даже трагические события первой русской революции, ставшей, говоря ленинскими словами, генеральной репетицией Великого Октября.
Очерк о революционном герое и моём земляке Ефиме Морине, напечатанный впервые в феврале 1957 года, то есть в преддверии 40-летия Октябрьской революции, я и предлагаю сегодня вниманию читателей. Вместе с постановкой очень важной, на мой взгляд, проблемы.
Отставной унтер
Ефим Морин, отставной унтер-офицер 72-го Тульского пехотного полка, возвращался домой после службы. В Конобееве заночевал у дальних родственников и чуть свет, взвалив тяжёлый мешок на плечи, зашагал по направлению к родной Шаморге.
Дорога шла вдоль Цны. Река спала. От воды, которая казалась холодной и неуютной, поднимался пар, как от кипятка. Солнце ещё не взошло. Было очень тихо, как всегда перед рассветом.
Ефим задумался. Перебирал в пути несложные события своей жизни, связанные с этими местами. Вспомнил смерть матери, нищенское детство в маленькой покосившейся избушке на краю села. Скоро он опять увидит ту избу.
Пожалуй, самое замечательное в его жизни — это знакомство с царицынскими рабочими. Ушли они с отцом в Царицын по овчинному делу (земля в том году совсем не родила). Там Ефим и сошёлся с хорошими людьми. На многое они раскрыли парню глаза.
Со службы Ефим заехал в Царицын, повидался со старыми товарищами. Взял у них не деньги, не сало, а целый мешок книг и несколько адресов — тамбовских, воронежских, московских. Ефим похлопал рукой мешок: будет пища для мужицких мозгов!
Вдали тем временем уже блеснул в первых лучах восходящего солнца крест шаморгской церкви. Что ж, здравствуй, родина!
…Ефиму удалось устроиться конторщиком в имение Нарышкиной на Быкову Гору. Управляющий остался доволен смышлёным и развитым парнем, почерк ему тоже понравился.
Поселился Ефим в тёмной боковушке, похожей на хлевушок. Сразу завалил комнату книгами. Рядом с изображением архиерея повесил маленький портрет какого-то бородатого, черного и большелобого человека. Брат Никита поинтересовался:
— Новый архиерей, что ли?
Ефим захохотал:
— Подымай выше. Это самый главный духовник всех бедных людей.
И больше ничего не сказал. Только посмотрит иногда на портрет и засмеётся: «Архиерей…»
В селе среди крестьян у Ефима вскоре появились друзья. Особенно он сошёлся с волостным писарем Александром Ивановичем Кондратьевым. Кондратьев — человек бывалый, начитанный и умный. Немало походил он по русской земле, жил в разных городах. Вечерами, когда из волостного правления все расходились по домам, Морин и Кондратьев подолгу засиживались у писарского стола, о чём-то шептались вполголоса, но громко и непонятно спорили.
Иногда после работы Ефим оставался на Быковой Горе. Вместе с ним обычно оставались некоторые служащие усадьбы. Прихватив с собой гармонь, они уходили в лес, к ручью. Там же собирались молодые шаморгские крестьяне. Сначала пели песни: «Калинушку», «Ямщика», «Есть на Волге утёс». Потом Ефим заводил разговор о бедных и богатых, о кабале и воле. В темноте спокойно, уверенно звучал его голос:
— Тут в основном мужики собрались, землеробы. Для вас земля — всё. А сколько вы имеете этой земельки и сколько её у госпожи Нарышкиной? У вас по полдесятины, а у барыни — тысяча. Никогда не задумывались, почему так получается? А то ещё, слышно, помещик Козловский устраивает пахоту на живых людях. Как при крепостном праве. Впрочем, по 20 копеек он платит. Так что, если хотите, можете наняться, подработать…
Всё-таки нашёлся подлец, рассказал управляющему, как проводит свободное время новый служащий. Уволили Ефима. Отец был огорчён до глубины души. Очень уж надеялся, что старший сын пойдёт по письменной части: грамота ему хорошо давалась. И вот поди ж — уволили. Говорят, смутьян.
— Жениться тебе надо, Ефим,— говорил Фёдор Васильевич. — Чай, уж не маленький, 26-й год. Да и жена была бы мне по дому помощница. Трудно нам без бабы.
Фёдор Васильевич гладил мягкие волосы сына, заглядывал в голубые острые глаза.
— Погоди, отец, не до женитьбы сейчас. Есть дела поважнее.
Что это за дела — трудно понять. Стал часто отлучаться из дому. Иногда на день, иногда на два, а то и на целую неделю. Видели его в Шацке, в Конобееве. Один шаморгский крестьянин, вернувшись из Тамбова, рассказывал, что случайно встретил там на улице Ефима Фёдоровича.
Домой Ефим приходил чаще всего ночью. Смотреть жалко, какой стал: худющий, глаза ввалились, на ногах кровавые мозоли. Однажды привёл двух незнакомых, нездешних. Шепнул младшему брату:
— Накорми их, Никитушка. Люди хорошие.
А сам почти ничего не ест.
Новые песни
В Шаморге и в окрестных сёлах стали появляться маленькие листочки, исписанные по-печатному. Листки эти называли афишками. Страшно делалось с непривычки, когда прочитаешь такой листок. Царя и господ в афишках величали самыми последними словами, а про бедных говорилось: «Кто был ничем, тот станет всем». Ещё страшнее стало старику Морину, когда однажды увидел целую пачку таких афишек в руках сына. Понял тогда, кто их заносит в деревню.
— Сынок, в тюрьму тебя посадят за такие дела.
— Ничего, отец, в тюрьме не только плохие люди сидят. За правду можно пострадать.
В октябре 1905-го пришла в село весть о царском манифесте. Волостной старшина Иван Фёдорович Губочкин собрал крестьян около правления:
— Государь жалует всем нам волю. Помолимся за государя!
— Воле царской грош цена! — раздался голос из толпы. Говорил Ефим: — Казаки в городах рабочих рубают, тюрьмы переполнены. Какая это воля?
Сход загомонил. Слышались голоса: «Правильно! Верно гутарит. Не верим мы в волю». И другие: «Самого его в тюрьму посадить надо. Говорун проклятый».
Ефим незаметно скрылся. А ночью, лёжа в тёмных сенях, улыбался. С улицы доносились задорные голоса девчат:
Конституция настала,
А я вышла на крыльцо.
Моментально мне казаки
Изрубили всё лицо.
Новые песни запела деревня.
Бунт
Через несколько дней после этого случая Ефим снова исчез из села. Доходили вести, что в Москве построили баррикады и учинили настоящую войну с казаками и верными царю солдатами. Фёдор Васильевич смутно догадывался, что и сын его, наверное, там, на баррикадах.
Приехал Ефим так же не-ожиданно, как и уехал. Явился средь бела дня оборванный и какой-то чужой. К вечеру по селу разнёсся слух: «Завтра делить поровну землю».
Народ собрался сам собой. Лица стариков были мрачные, суровые. Настроение у большинства отчаянное. Морина слушали внимательно, раскрыв рты.
— Мы должны последовать примеру наших братьев-пролетариев. Волю и землю нам никакой царь не даст, если мы сами их не возьмём.
Никто из мужиков не знал, что в это время к Шацку уже скакал урядник Колдашов с донесением о бунтовщиках. Сон села был беспокойным, а пробуждение — страшно. Поутру с гиком промчалась по селу казачья сотня. Началась расправа. Колдашов провёл офицера с несколькими казаками к дому Морина. Их встретил перепуганный старик. Дрожащей рукой он мелко крестился.
— Подавай сына, дед!
— Сам не знаю, где он, помилуй бог.
— Шомполов ему, — коротко распорядился офицер.
Фёдора Васильевича высекли до полусмерти. В доме всё перевернули вверх дном, книги Ефима увезли. А ещё увезли из села в тюрьму 18 человек крестьян — самых неспокойных и дружных.
За красной стеной
Единомышленники у Ефима были почти в каждом селе: в Елатьме и в Ольхах, в Тарадеях и Кермиси, в Алеменеве и Темешеве. Ефим был неуловим. Только через полгода уряднику Прохору Синицыну удалось выследить его в Тарадеях и схватить.
Началась для Ефима новая жизнь — за красной стеной Шацкой уездной тюрьмы. Полмесяца длились бесконечные допросы. Следователь всячески изощрялся, чтобы упечь Ефима на каторгу или в ссылку. Однако всё было так строго и тонко законспирировано, что Ефим отделался на этот раз сравнительно легко. Постановлением министра внутренних дел от 29 июля 1906 года он был подвергнут гласному надзору полиции сроком на два года в избранном им месте жительства, за исключением столиц и Тамбовской губернии.
Когда Ефима вывели за ворота, он не сказал тюрьме «прощай»:
— До свиданья, родная!
Свидеться пришлось очень скоро.
Не мог Ефим без революционной работы. Она стала содержанием всей его жизни. Снова он вёз в родные края нелегальную литературу и распространял её среди крестьян. Изредка появлялся в Шацке, в кружке самообразования, где читали марксистскую литературу. Здесь, в Шацке, его и схватили вторично в январе 1907 года.
При обыске у Морина было обнаружено 95 экземпляров революционных брошюр. Так состоялось его возвращение в камеру Шацкой тюрьмы. В тюрьме этот крепко сбитый, сильный человек с лицом русского богатыря был любимцем политзаключённых. Ни на минуту не падал духом. Всегда весёлый, жизнерадостный, он хорошо пел, сам сочинял песни. Его богатая память хранила много интересных рассказов и историй.
— Хотите из Горького? «Над седой равниной моря ветер тучи собирает…»
В феврале в здании Конобеевского волостного правления должен был заседать суд над Ефимом Мориным. Это известие крестьяне окружных сёл встретили насторожённо, тревожно. К Конобееву потянулись вереницы повозок и пешеходов. Власти перепугались. Ведь мужики могут опять взяться за вилы. Раскаты революции ещё не утихли.
Заседание суда над Мориным отложили на неопределённый срок. Ефиму сообщили, что следствие будет продолжено. Рано утром его повезли в Берёзово на очную ставку к какому-то больному свидетелю. Конвоировали Ефима урядники Колдашов и Щербаков (Ефим хорошо знал их: они были его одногодками и вместе с ним служили в 72-м полку).
Необычный это был поезд. На сани взгромоздили огромный ящик, похожий на шкаф. В стену ящика вделали настоящую тюремную решётку. «Клетка», — подумал Ефим. В Берёзове ни к какому свидетелю его не повели…
Выстрелов было два
Согласно воспоминаниям брата Ефима Фёдоровича, который проводил в своё время собственные расследования, попытался я представить, что и как могло происходить далее.
В тот же день его потащили обратно по конобеевской дороге. Стражники, видимо, спешили. Они то и дело погоняли лошадей.
Конобеево миновали, не заезжая. Только несколько минут постояли возле околицы. Щербаков куда-то отлучился на минуту. Вернулся пьяный, с бутылкой водки за пазухой:
— Не хотите ли выпить, Ефим Фёдорович?
В голосе его прозвучала откровенная издёвка. Ефим промолчал.
Вечерело. Поднимался ветер, порывистый и мягкий, совсем весенний, несмотря на февраль. Ефим снял шапку и, прильнув к решётке, жадно вдыхал ветер свободы. Весна скоро… Хорошая пора! Но больше всего любит Ефим как раз вот такое предвесеннее время, когда говорят, что «весна в воздухе», когда дышишь весной. И он вздохнул глубоко, всей грудью.
Лошади вдруг резко стали, как вкопанные. Стражники о чём-то вполголоса переговаривались. Потом звякнул замок.
— Перекур! Можешь выйти до ветра.
Странно. Это впервые за сегодняшний день его выпускают из клетки. Где они остановились? Кажется, на самом подъезде к Шацку. Ну, конечно. Волосатский мост остался позади. Кругом поля. Успокаивающе шумят придорожные вётлы. Ефим вспомнил, что около этих самых вётел они собирались однажды в прошлом году. Тогда было лето, а вётлы покачивались вот так же спокойно и монотонно…
Сначала он услышал выстрел. Прозвучал выстрел оглушающе громко: пистолет был приставлен к самой груди. Ощутил одновременно запах водочного перегара и острую боль под сердцем. И затем, уже упав на спину, услышал, как ахнул ещё один выстрел. Всё было кончено.
«Ты честно прошёл…»
Врача Шацкой больницы Николая Никаноровича Алеева разбудили ночью и позвали на службу «по особому случаю». Доктор привык к ночным пациентам, поэтому ничуть не удивился, только повздыхал и покряхтел немножко. В больнице его встретил коллега, доктор Серповский:
— Дело щекотливое. Лечить-то, собственно, некого. Человек умер и жить больше не будет. Два выстрела почти в упор, причём один в полость груди, а другой — в полость живота. Но вот господа утверждают, что человек убит при попытке к бегству. Требуют справочку.
Серповский показал на двух полицейских, скромно стоящих в сторонке. Справку врачи не выдали, но на следующий день в больницу явился сам земский начальник. Расплывчато, но очень настойчиво он стал объяснять, какой страшный преступник был убит ночью и какие последствия могут повлечь за собой всякие попытки противиться властям. Ушёл начальник с желанной справкой, в которой было написано, что «политический заключённый Морин Ефим Фёдорович убит при попытке к бегству из-под стражи».
Для Фёдора Васильевича начались беспокойные дни. Был он старик верующий и больше всего хотел похоронить сына по православному закону, по всем христианским правилам: с попом, с дьяконом, с молебнами. Однако ему сказали, что не только о попе не может быть никакой речи, но что и похоронить-то сына на кладбище нельзя дозволить.
— Не место ему рядом с честными христианами. Сын твой христопродавец и богохульник. Как собаку зароем.
Отец все глаза выплакал, снёс все свои скудные деньжонки начальству, пока добился разрешения похоронить Ефима в черте кладбища. Гроб выносили, когда уже совсем вечерело, и зарыли его у самой стены. Присутствовали только родственники. Крест на могиле ставить запретили.
И всё же не удалось скрыть то место, где похоронили бесстрашного бунтовщика. Через несколько дней на могиле появились венок и маленький букетик живых цветов. Цветы убрали, а на следующую ночь они появились снова. Пришлось выставить полицейского. Вётлы, около которых убили Морина, кто-то выкрасил в красный цвет. Они стояли, как будто обагрённые кровью революционера. Выслали целый наряд полиции, чтобы смыть краску, но она отмывалась с трудом. В конце концов вётлы — эти немые свидетели зверской расправы — были срублены.
Пятьдесят лет спустя
Труднее оказалось уничтожить память о Ефиме Морине. Память — не дерево, срубить её невозможно. Она шла по сёлам и деревням Рязанской и Тамбовской губерний, доставляя много беспокойства власть имущим. Не зря расстался с жизнью Ефим, не напрасно прожил свои 28 лет.
В 1914—1915 годах возник среди учащихся Куплинской духовной школы нелегальный кружок. Члены кружка свято хранили имя Морина, первого революционера в округе. 22 волчьих билета было выдано выпускникам школы в те годы. И почти все исключённые стали впоследствии большевиками. Григорий Шлыков был первым секретарём Шацкого уездного комитета комсомола. Иван Гуськов участвовал в организации Советской власти в Шацком уезде. Иван Тарабрин возглавлял в годы Гражданской войны один из уездных исполкомов Тамбовской губернии. Первым секретарём Куплинской комсомольской организации был Иван Сарвилов, погибший в 1921 году в боях с антоновскими бандами. Такими яркими ростками всходило семя, брошенное товарищем Ефимом.
О Морине слагали песни в его родном селе:
Было дело в пятом годе,
Дело славное, друзья.
Мы дрались тогда за землю
И за волю до конца.
Морин был борец народа.
Он хотел нас защитить.
Старшина же кровопийца
Нанялся его убить.
Старшина хвалился злобно:
Вас спасаю от него!
Но народ смотрел и плакал
От жестокости его.
Конечно, наивная песня. Несовершенная, как говорится, с точки зрения литературной формы. Но её пела шаморгская беднота, когда под ленинскими лозунгами поднялась на борьбу за землю в 1917 году. Пели эту песню вместе с «Марсельезой» и «Интернационалом».
Каждый год после Октября, по революционным праздникам, устраивали местные крестьяне манифестации к дому, где жил Ефим Морин. Шли с красными флагами, с портретами, с песнями. Говорили речи. Вспоминали погибшего товарища. А когда настало время объединиться в колхоз, назвали его именем Морина.
Чтить память павших борцов
Комментарий года 1957-го
Прошло 50 лет с того дня, как погиб Ефим Морин. Срок не такой уж большой. Однако спросите у молодых колхозников сельхозартели им. Морина: а что это за человек, чьё имя носит их колхоз? Одни начнут смущённо мяться. Другие выскажут предположения, что Морин — это красный партизан(?), или первый председатель колхоза, или… что-то в этом роде. Ни в правлении колхоза, ни в сельском Совете нет даже портрета Морина. В Шацке его имя носят теперь две улицы (в городе и в Чёрной Слободе). Но и большинство жителей этих улиц не очень ясно представляют себе, чем же прославился Морин.
Можем ли мы, комсомольцы, столь нелюбопытно относиться к прошлому своего села, города, своей улицы? Нет, не можем.
Прах Морина после Октябрьской революции перенесли с кладбища на шацкую площадь. Затем, в годы Гражданской войны, здесь же похоронили ещё немало отважных сынов народа. Жертвы «лопаточной войны» 1918 года — кулацкого бунта в прицнинских сёлах. Жертвы антоновщины. Партийные и советские руководители. Образовалась большая братская могила. Теперь даже трудно установить, кто здесь покоится, так как имён на надгробной плите нет, а в памяти коренных жителей города они постепенно стираются.
Местные советские органы несколько лет назад решили устроить на площади рядом с братской могилой рынок. И вскоре могила революционеров оказалась уже в центре рынка.
Возможно, в твоём городе, посёлке или селе тоже есть могила, в которой похоронен революционер, погибший за справедливость. Лежат в этих могилах скромные люди, не любившие и при жизни слишком беспокоиться о личном удобстве.
Могилы молчат. Но мы не должны молчать.
Комментарий года 2017-го
Прошло теперь уже 110 лет со дня гибели Ефима Морина и 60 лет с тех пор, когда написал я приведённый выше текст. Но разве снята или отменена поставленная в нём проблема памяти? Нет, конечно. Наоборот, после уничтожения Советской власти в 1991-м она стала ещё острее!
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.