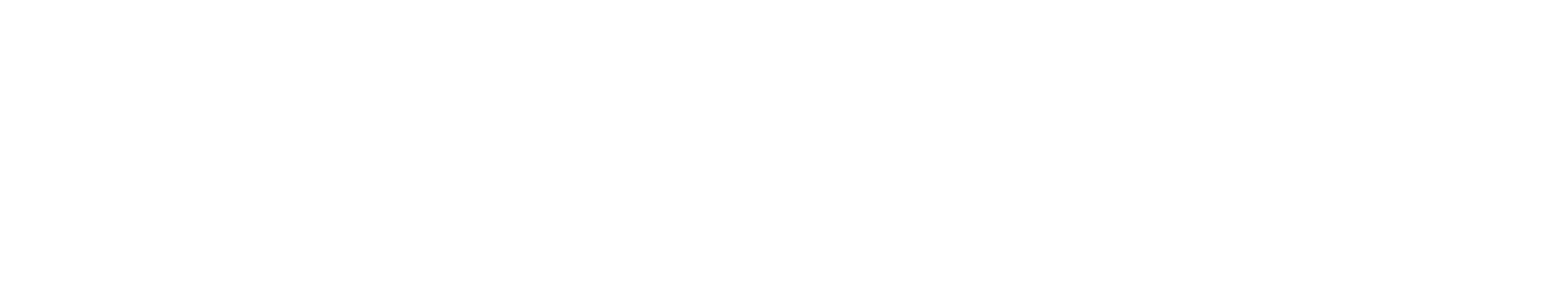В продолжение опубликованного ранее текста навстречу празднования тысячелетнего юбилея древнерусского города Усвяты в Псковской области хотелось бы предложить вниманию читателю текст с обилием цитат из повести “Усвятские шлемоносцы” советского российского писателя, участника Великой Отечественной войны, уроженца курской земли Евгения Ивановича Носова /15.01.1925 — 12.06.2002. В качестве географической точки, где происходит действие повести (впервые опубликована в 1977 в журнале “Наш современник” / главный редактор Сергей Васильевич Викулов, отдельным изданием вышла в 1980 г. в издательстве “Молодая гвардия”), автор выбрал расположенную в Центральном Черноземье России деревню с названием Усвяты (предположительно в Орловской области, поскольку в тексте упоминается райцентр Ливны / также в форме множественного числа) на реке с придуманным писателем названием Остомля. В повести описываются события с раннего утра 22.06.1941, когда косари, орудующие своими инструментами на лугах далеко от деревни, уже после полудня впервые слышат от посыльного из деревни страшное слово “Война!”
Главный герой повести — справный мужик и колхозник 36 лет Касьян Тимофеевич (его фамилию читатель так и не узнает) и члены его семьи: престарелая мать Ефросинья Ильинична, жена Наталья на сносях с третьим ребёнком (предположительно — мальчик) и два сыночка-сорванца: старший Сергунок, которому идёт 8-й год и младший Митюнька, которому чуть больше двух лет.
Среди героев повести — односельчане Касьяна, среди которых выделяется дедушко Селиван, который участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг. и в Первой мировой войне (получил Георгиевский крест), и который вспоминает о предшествующих войнах: Крымской войне 1853-1856 гг. и о войне с турками 1877-1878 гг. Упоминается в тексте и советско-финская зимняя война 1939-1940 гг. Если суммировать эту военную хронологию, то получается, что 22.06.1941 наше Отечество за неполное столетие вступило в шестую по счёту войну с чужеземным неприятелем.
О первых днях начавшейся войны, как их за многие сотни километров от фронта видит главный герой Касьян или Кося, как его называет жена Наталья или Натаха, и рассказывает повесть.
Мне захотелось выделить некоторые, по моему мнению, запоминающиеся эпизоды и диалоги из текста, которым предшествуют примерные заголовки. Если уважаемым читателям после прочтения указанных выдержек из повести захочется прочитать или перечитать полностью это вершинное произведение Героя Социалистического Труда Евгения Ивановича Носова, то, возможно, моя цель попытаться привлечь внимание к имени писателя-фронтовика из курской глубинки и к его произведениям будет чуть достигнута.
Читатель так никогда и не узнает о том, вернётся ли солдат-шлемоносец из Усвят Касьян с войны, но сможет при чтении повести ещё раз окунуться в ту тревожно-неизвестную атмосферу первых дней войны, когда пахари становились воинами.
Предлагаются следующие эпизоды:
1/ Повестка на фронт:
“Посыльный подал через плетень свёрнутую чурочкой клеенчатую тетрадку со вставленным между страниц чернильным карандашом. Тетрадка была уже изрядно потрепана, замызгана за эти дни множеством рук, настигнутых ею где и как придётся, как только что застала она Касьяна. Перегнутые и замятые её страницы в химических расплывах и водяных высохших пятнах, в отпечатках мазутных и дегтярных пальцев, с этими молчаливыми следами чьих-то уже предрешённых судеб, чьих-то прошумевших душевных смут и скорбей, пестрели столбцами фамилий, против которых уже значились неумелые, прыгающие и наползающие друг на друга каракули подписей. Попадались и простые кресты, тоже неловкие, кособокие, один выше другого, и выглядели они рядом с именами ещё живых людей будто кладбищенские распятия”.
2/ Разговор отца с младшим сыном:
“- Пап, а Селезка лягуску забил, — донёс Митюнька на брата.
— Как же он так?
— Палкой! Ка-а-к даст! Я ему — не смей, она холосая, а он взял и забил… Нельзя убивать лягусок, да, пап?
— Нельзя, Митрий, нельзя.
— И касаток нельзя. А то за это глом ударит.
— И касаток.
— И волобьев…
— Ничего нельзя убивать. Нехорошо это.
— Одних фасыстов мозно, да, пап?
— Ну дак фашистов — другое дело!
— Потому что они с фасыским знаком. Ты пойди и всех их плибей, ладно, пап?
— Пойду, Митя, пойду вот… Ну, ступай, сынка, ступай, а то я тут… работаю…”
3/ Разговор Касьяна с соседкой:
“- Ох, Касьянушка, голубок! Ноги подкашиваются: пришла, пришла ему-ти бумага, штоб тому-то Гитьлеру ни дна, ни покрышки, откудова он токмо, мамай, свалился на наши головушки… Побёг Ляксей наш к мужикам узнать, как да чево. Гляжу, ходит, ходит по избе-то, вот курит, вот курит! Да и пошёл. Сказывал, будто к Зябловым. А тебе тоже прислали, ай минули?
— Прислали, мать, прислали.
— Ох, горемышные вы мои! Страдальцы наши! Дак хоть вместе пойдёте, своей кучкой. Вместе оно всё не так: куском поделитесь, словом ли… А ежили, не приведи богородица, паранють, дак и повяжете друг дружку. Ох, лихо, лихо — лишей и не было…”
4/ Получившие повестки в доме деда Селивана:
“Увидев всё это на столе, Касьян с неловкостью сознался:
— У вас тут, гляжу, складчина. А мне и в долю войти не с чем…
— Да уж ладно, — загомонили мужики. — Без твоей доли обойдёмся. Нашёл об чём. Не тот день, чтоб считаться. Давай, подсаживайся.
— На пятерых припасено, а шостый сыт, — присказал и хозяин. — Брат брату не плательщик. Отноне все вы побратимы, одного кроя одёжка: шинель да ремень.
— Это уж точно, обровняли, — кивнул Никола Зяблов…
… И, пока Давыдко разливал по посудкам, уклончиво глядели себе под ноги. Не притрагивались и потом, когда было всё изготовлено, не решались взять в руки непривычные эти чары: всякие питы — и крестины, и новоселья, и похороны, а таких вот ещё не доводилось.
Селиван привстал, прихорошил ладошкой сивую бородку, пересыхающим ручейком стекавшую на рубаху, поднял гранёную рюмку, задержал её перед собой, как свечу.
— Ну да, стало быть, подступил ваш час, ребятушки. Приспело времечко и вам собирать сумы…
Дедко ещё только начал, но тяжелы были его слова, и стало видно, как сразу отяготили они мужицкие головы, как опять пригнуло их долу.
— Думал я, когда ту кончили войну, што последняя. Ан нет, не последняя. Накопилась еще одна, взошла туча над полем…
Дедушко Селиван задержал взгляд на окне. Дрожавшая в его руке рюмка скособочилась, пролилась наполовину, но он не заметил того.
— Тут у нас всё по-прежнему, — кивнул он в оконце. — Вон как ясно, тишина, благодать. Но идёт и сюда туча. С громом и полымем. Хоть и говорится — велика Русь и везде солнышко, а теперь, вишь, и не везде…
Старик подвигал туда-сюда бровями, словно сметая в кучку остатние мысли, какие еще собирался вымолвить, но, смешавшись, махнул рукой.
— Ну да ладно… Хотел ещё чево сказать, да што тут говорить… Ступайте с богом, держитеся… Это и будет вам моё слово. На том и выпейте…
— … Сено! Хлеб неубранный остается.
— Да-а, — почесал за ухом Давыдко. — Не ко времени война зачалась. Что б ей погодить маленько? Ну хоть недельки с три-четыре. Пока б сено прибрали да хлеб. Управились бы, а тогда…
— Что и говорить, не в срок затеялась.
— А и когда война была нашему брату-пахарю в пору? — посмеялся дедушко Селиван. — Смерть да война незваны завсегда… Да што поделаешь? Огонь с соломой всё равно не улежится. Так и война с нашими делами. А уж ежели занялось, годи не годи, а бросай всё да иди. Тут уж тушить надобно, пока и
сама изба не сгорела…
— …Ещё только за столом сидим… Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями ещё не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме… Генералы, и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, всё не козырь… Все не наш верх…
— Да уж не козырь, это верно, — проговорил Давыдко…
— … А я так, ребятки, на это скажу, — встрял в спор дедушко Селиван. — На войну што в холодную воду — уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть — голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Ещё и не воевал, а уже вроде упокойника. А сразу — как
нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать.”
5/ Мысли Касьяна о том, что и как остаётся в деревне:
“Как же оно тут будет, если так вот всё бросим? Война с её огнем далеко, но уже здесь, в Усвятах, от её громыхания сотрясалась и отваливалась целыми пластами отлаженная жизнь; невесть на кого оставлялась скотина, бросалась неприбранная земля, хлеба только завосковели, а уже располовинили трактора, угнали самую главную гусеничную силу. И Афоня-кузнец тоже вон загасил свое горнило. Беда-а!”
6/ Выстиранное бельё на верёвках во дворе:
Облитое мертвенным светом луны, глядевшей через ворота, нынешнее бельё в безлюдном ночном дворе полоснуло его догадкой, и он, так и оставшись у калитки, принялся обшаривать глазами верёвки, простёртые от сеней к амбару и от амбара к сеням, перебирая все эти скатерки, рушники, ряднушки, наволочки, простыни и прочее добро, — хотел и не хотел найти то главное белье, ради которого, наверно, и было всё это затеяно. Неловко поднырнув под первую верёвку, он всё-таки отыскал его… То главное бельё вперемежку с ещё какими-то постирушками висело как раз посередине второго ряда в самом центре двора, будто для него специально отвели это лучшее место: три нательные рубахи, трое подштанников и несколько лоскутов домотканых портянок…
… Он ещё раз оглядел свое бельё и вдруг распознал висевшие меж ним детские вещицы. Это были Митюнькины и Сергунковы штанишки, те самые, которые Натаха сшила к покосному празднику. Крошечные, жалкие от своей стираной измятости и ссохлости, с лопоухо вывороченными карманами, с пуговицами на ширинках, они теснились и беззащитно льнули к его аршинной рубахе: Сергунковы — к левому рукаву, Митюнькины — к правому, словно бы хотели в последний раз побыть рядом с отцовской одежей. Для стороннего глаза не было в том ничего особенного — висят тряпки, ну и ладно, какая разница, как их ни развесь. Но Касьяну давно известны все эти Натахины дотошности. Всё-то она старается сделать со своим распорядком… И в том, как нынче было определено каждой вещи своё место на веревке — его, Касьяново, вместе с детским, — он, теплея душой и полнясь щемящей жалостью к Натахе и особенно к ребятишкам, теперь уловил этот её тайный умысел и понимание предопределённого часа: посчитала бы дурной приметой развесить всё это по разным местам, разлучить отца с ребятишками…”
7/ Разговор Касьяна с Натальей:
“- … Ты-то пойдёшь не один, да ты-то у нас один.
— Ну да что толковать? Жил? Жил! Семью, детей нажил? Нажил! Вон они лежат, кашееды. Да с тобой третий. Нажил — стало быть, иди обороняй. А кто же за тебя станет? Не скажешь же Лёхе: на тебе трояк або пятерку, пойди повоюй за меня? Не скажешь…”
8/ Как назвать будущего ребёнка:
“- … Да разве одним этим дом помнится? Вон дети твои спят. Их и помни. Тебя весь день не было, а они намотались, напомогались. И бураков надёргали, и в погреб раз пять бегали, и куриц ловили. Сережа дак и дрова брался сечь, хекал-хекал, как старичок, самого топор перевешивает. А ему сколь ещё всего без отца достанется. Мы-то с матерью теперь и куру не споймаем…
— А ещё и земля вон ляжет на бабьи руки, — продолжала своё Натаха. — Шутка ли, поле неоглядное. Хлеб, да бурак, да чёртова уйма всего. Родится маленький и вовсе руки свяжет.
— Как назовёшь-то? — спросил Касьян, опять нашарив отброшенную сумку. — Не надумала?
— Надумала… Касьяном и назову.
— Дак зачем ещё Касьян-то?
— А чтоб слово в доме было. Ты уйдёшь — и позвать так некого будет. А то вроде как ты опять с нами. Как и не уходил. А чем плохо: Косечка? А мне нравится. Пусть с этим растёт….
— … Касьян дак Касьян. Может, и пригодится…”
9/ Отстранённость:
“Касьян … проснулся (в сеннике) уже другим, отрешённым, с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби, делавшей его нездешним, отошедшим куда-то, будто и на самом деле весь этот мир жил уже без него, а он, ещё в нём присутствуя, всё ещё видя и слыша его, был вроде бы уже ничему не причастен. Лежа в санях, он отстранённо, какими-то чужими глазами глядел на залетавших касаток, уже не будивших в нем никакого чувства, кроме ненужности их суеты, и даже плач Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил узнать причину и подхватил бы на руки, — даже этот плач его любимца доходил до него, как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться. Его настоящим была теперь дорога, та, завтрашняя, с котомкой за плечами, о которой он всё еще старался не думать, но острое чувство которой, пришедшее к нему уже во сне, что-то оборвавшее и переиначившее в нём, сонном, заполнило и подчинило себе всё его существо…”
10/ Посыльный в Ситное за 6 вёрст в одну сторону:
“- Слушай, Серёжа, — нетерпеливо перебила Натаха. — Ты знаешь, где дядя Никифор (брат Касьяна) живёт?
— Знаю. В Ситном он.
— Ага, в Ситном. А как туда идти — знаешь?
— Чего ж не знать. Сколь с папкой бывали…
— Слушай, сынка, сбегал бы ты к дяде Никифору, а?
— Один?
— Ну дак больше некому. Скажи, пусть к нам с тётей Катей приходят. Мол, папка на войну уходит. Пусть седни и придут. Запомнил? Мол, на войну…
— Ага…
— Оттуда с ними придёшь.
— Ладно. Только можно я с папкиной сумкой?..
— Да на что тебе, сумка-то?
— А так… По нашей деревне пройду.
— Нешто ты побирушка — с сумкой-то ходить?
— Прямо! Она ж солдатская.
— Ох ты горе моё — солдатская! Ещё наносишься. Её вон и укладывать пора. Папка хватится, а сумки не будет.
— А я швыдко (быстро).
— Ладно уж, бежи. Только давай я покороче её подвяжу. Да хлебца с яичком положу. Бежать не близко.
— А я? — опять захныкал Митюнька.
— Нет, Митя, нет, маленький. Это ж вон как далеко. Не дойдёшь ты.
— Дойду-у…
— Ну, беда с вами. То ли с мёдом она, сумка-то? С горем, а не с мёдом… Вот Сережа сбегает, а тогда и ты поносишь. Папка тебе и ремень свой даст поносить. И картуз. Во как славно-то будет! Обрядится наш Митрий в ремень да в картуз — экий герой!
— Ну, мам, я побег! — готовно выкрикнул Сергунок. — Я скоком!
Спустя время хлопнула калитка, и Касьян слышал, как по-за плетнём дробно застучали Сeргунковы пятки. Вот уже и без него живут, опять как-то сторонне подумал Касьян, будто поглядывал за своими из иного мира. Теперь достанется Сергунку: дров насеки, по воду сходи, корову пригони, за сеном слазь, в магазин сбегай… А там картошку копать. Кому ж копать, как не ему. Матери не в пору, а бабке невмочь. Ему бы сапоги хорошие б в осень, по работе и обувка должна бы… Эх, ничего не сделано, кругом неуправа…”
11/ Материнский хлеб:
“Касьян задержался в дверях, глядя, как мать, засучив рукава под самые под мышки, обнажив иссохшие, сквозившие синевой руки, низко повязанная платком, тискала кулаками тесто, и её острые, шишковатые локти ходко мелькали по обе стороны узкой, сутуло выпиравшей спины, обтянутой посконной землисто-серой кофтой. Время от времени она заморённо выпрямлялась, но, такдо конца и не выпрямившись согбенной спиной, поочередно снимала с кистей, как рукавицы, белые шматы теста, шлепала ими в дежу, оскребала о край ладони и, подцепив деревянный корец, подсыпала муки в медленно заплывавшие дыры, оставленные её кулаками. Касьян давно не видел мать за хлебом, уже непосильна стала ей эта нелегкая справа — и обхаживать саму дежу, и тягать против себя пятнадцатифунтовые колоба, чтобы потом ссадить их с деревянной лопаты в огнедышащей глубине печи, — всё это непроворотное дело она передоверила невестке. Но нынче и Натахе было такое не по плечу, и вот, оказывается, мать, переступив через свои немочи, снова стала к загнетке…
… сейчас, понуждаемая неудержимо назревавшим тестом, пылающей печью, которые теперь уже не дадут ни роздыха, ни передышки, распалясь работой, разгоряченно, как в прежние свои годы, укрощала и техкала трёхпудовую поставу, не думая, что будет с ней потом. И впалые её щеки, иссечённые морщинами, пробил таившийся где-то прежде слабый румянец, а глаза заголубели, очистились от застаревшей наволочи, когда она обернулась к Касьяну, почуяв его присутствие. Сколько помнит себя Касьян, выпечка хлеба всегда была в их доме непреходящим событием, особенно перед сезонной страдой, а пуще — перед каким-нибудь праздником, когда затевался большой хлеб, сопровождаемый пирогами и ситниками. Встрепанная, выпачканная сажей, с уронёнными меж колен вздувшимися руками, мать потом безвольно сидела на лавке рядом с бугрившимися на столе ковригами, укрытыми влажным рядном, источавшим парок и крепкий ржаной дух отдыхающего хлеба.
— К чему навела столько? — заметил Касьян, встретив возбуждённый взгляд матери. — Будет тебе потом…
— Ну как же! — Мать запястьем пересунула платок повыше. — Идёшь ведь…
— Махотиха (соседка), поди, тоже печёт. Взяли бы взаймы покуда.
— Что ж с чужим-то хлебом? На такое со своим полагается идти. Свой в сумке полегче, попамятнее. Как же не испечь свеженького? Поешь в дороге моего хлебца. Спеку ли ещё когда. Видать, последний это… Моя рука лёгкая была. Я ведь и отцу твоему пекла, когда ещё на ту войну провожала. Ан, цел пришел, невредимый.
— Не на всю войну хлеб. Покуда дойдём, весь и съестся…
— Ну да уж ладно: слёз моих в этом хлебе довольно замешано. Мобудь, за святую водицу и сойдут, материнские-то слезы…”
12/ Сказ о немецком змее:
“- …А змей тот немецкий об трёх головах, — доносился высокий распевный голос Натахи. — Из ноздрей огонь брызгает, из зелёных очей молоньи летят. Да только папка наш в железном шеломе, и рубаха на нем железная. Нипочем ему ни огонь, ни полымя. А тут вот они подоспели, и дядя Алексей Махотин, и дядя Николай Зяблов, и еще много наших. Кто с рогатиной, кто с вилами, а дядя Афоня дак и с молотом…
— А папка нас с рузьём! — ликовал Митюнька. — Как пальнет по змейским баскам, да, мам?
Касьян не стал мешать Натахиной сказке, отступил в сени…
… По солнышку было около десяти, но Усвяты — и старые, и новые — против обычного ещё не оттопились, в безветрии дружно дымили почти каждой трубой: везде затевали большие подорожные хлебы, стряпали прощальные столы”.
13/ Помыться на дорожку:
“- Ты бы, Кося, помылся, чистое надел, пока из Ситного придут. Мать воды нагрела.
— Ладно, успеется, — нехотя отозвался он.
— Да когда ж… Последний денек.
В Усвятах, как и во всё подстепье, бань не заводили и потому мылись скупо, в корытах и лоханях, зимой — дома, наплескивая на полы, летом — в сарайках, и всё это ещё с самого детства засело как докучливая обуза.
— Я лучше на реку схожу, — сказал Касьян…
— Сходи, сходи, — одобрила Натаха. — Там повольнее. И бельё возьми чистое. Только вот накатала. Будет ли вам баня, а ты уже чистый пойдёшь, прибранный”.
14/ Разговор сыновей за столом:
“- Ух ты! Глянь-кось, пироги! Я вон тот себе возьму.
— Какой?
— А вона. Который самый зажаристый.
— Ага-а, хитленький!
— А кто в Ситное ходил?
— Ну и сто? А я в магазин зато.
— Ох, даль какая. Небось мамка несла?
— Как дам…
— А во — нюха?
— А ты… а ты Селгей-волобей. Селый! Селый!
— А ты Митя-титя.
— А зато мне кулиную лапку, ага!
— Прямо, тебе!
— А сто, тебе, сто ли ча? Всё тебе да тебе.
— И не мне.
— А кому за?
— Это папке курицу. Папка на войну идёт, понял? Когда вырастешь большой, пойдёшь на войну, тади и тебе дадут”.
15/ старший Сын вместо отца первый раз оделяет свежеиспечённый хлеб семье:
“Касьян, держа большой самодельный нож из стального окоска, принял из материных рук ковригу, отдававшую ещё не иссякшим теплом, и только чуть дрогнул уголками рта при мысли, что это его последний хлеб, которым ему нынче предстояло оделить семью. Наверное, это осознавали и все остальные, потому что, пока он примерялся, с какого края начать, и Натаха, и бабушка, и
Сергунок, и даже Митюнька прикованно, молча глядели на его руки. И оттого сделалось так тихо, что было слышно, как поворачиваемый хлеб мягко шуршал в грубых Касьяновых ладонях.
Но Касьян вдруг опустил хлеб на стол и сказал:
— А ну-ка, сынок, давай ты.
— Я? — встрепенулся Сергунок. — Как — я?
— Давай, привыкай, — сказал Касьян и положил перед ним ковригу.
От этих отцовых слов мальчик опять пунцово пыхнул и, всё ещё не веря, не шутит ли тот, смущённо посмотрел на хлебный кругляш, над которым он, сидя на лавке, едва возвышался маковкой.
— Давай, хозяин, давай, — подбодрил его Касьян.
Сергунок, оглядываясь то на мать, то на бабушку, обеими руками подтянул к себе тяжелую хлебину и робко принял от отца старый источенный нож.
— А как… как резать? — нерешительно спросил он.
— Ну как… По едокам и режь.
Сергунок привстал на лавке на колени. Посерьёзнев и как-то повзрослев лицом, но всё ещё полный робости, словно перед ним лежало нечто живое и трепетное, он первый раз в своей жизни приставил кончик ножа к горбатой спине каравая. Корка сперва пружинисто прогнулась, но тут же с лёгким
хрустом охотно, переспело раздалась под ножом, и Сергунок, бегло взглянув на отца, так ли он делает, обеими руками надавил на рукоятку, так что проступили и побелели остренькие косточки на стиснутых кулаках. В ревностном старании высунув кончик языка, он кое-как, хотя и не совсем ровно,
откромсал-таки третью часть ковриги и, оглядев всех, сосчитав едоков, старательно поделил краюху на пять частей. Выбрав самый большой серединный кусок и взглядывая то на отца с атерью, то на бабушку, не решаясь, кому вручить первому, он наконец робко протянул хлеб отцу.
— Это тебе, пап.
— Сначала матери следовало б, — поправил его Касьян. — Учись сперва мать кормить.
— Тогда уж первой бабушке, — сказала Натаха. — Бабушка пекла, ей за это и хлеб первый.
В разверстых глазах Сергунка отразилась недоуменная растерянность, но бабушка перевесила:
— Отцу, отцу отдай. Нам ещё успеется, мы — дома…”
16/ детские пряди волос вместе фотокарточек:
“- Да! Вот что! — вскинул голову Касьян. — Возьми-ка ножницы, состриги мне с ребят волосков. — Натаха выжидательно обернулась.
— Карточек-то с них нету, с собой взять. Сколь говорено: давай в город свезём, карточки сделаем. И твоей вон нема.
— Дак кто ж знал… — повинилась Натаха. — Разве думалось.
— Дак состриги, пока спят. С каждого по вихорчику.
Она принесла из кутника ножницы и расстелила на столе лоскут. Сергунок и не почуял даже, как щёлкнуло у него за ухом… Сероватая прядка ржаным колоском легла на тряпочку. Митюнька же лежал неудобно, зарылся головёнкой в бабушкину подмышку, его пришлось повернуть, и он, на миг разлепив глаза и увидев перед собой ножницы, испуганно захныкал.
— Не бойся, маленький, — заприговаривала Натаха. — Я не буду, не буду стричь. Я только одну былочку. Одну-разъединую травиночку. Папке надо. Чтоб помнил нас папка. Пойдет на войну, соскучится там, посмотрит на волосики и скажет: а это Митины! Как он там, мой Митюнька? Слушается ли мамку? Ну вот и всё! Вот и готово! Спи, золотце моё. Спи, маленький.
И ещё один колосок, светлый, пшеничный, лёг на тряпочку с другого конца.
— Не попутаешь, где чей? Запомни: вот этот, пряменький, — Серёжин. А который посветлей, колечком — Митин.
— Не спутаю.
— Я их заверну по отдельности, каждый в свой уголок. Может, подписать, какой Митин, а какой Серёжин?
— Да не забуду я. Ещё чего!”
17/ Долгие проводы — лишние слёзы (дома):
“В дом ему не хотелось: не сознавая того, невольно оберегал он в себе ту пришедшую к нему ровность, с какой сейчас, не тратя себя, лучше бы за калитку, — и все, как обрезал. Приглаживая неприбранные волосы, Касьян на носках переступил порог еще по-утреннему тихой избы, заведомо томясь горечью
увидеть в эту последнюю трудную для него минуту не столько самих мальчишек, сколько старую мать. Ребятишки — ладно: поцеловал бы сонных да и пошел, но мать, поди, уже давно топчется, вон и гусей с коровой нет во дворе, и он вошел в дом, весь внутренне напряженный и стянутый.
Мать он увидел в горнице перед распахнутым сундуком. Не замечая его, она копалась внутри, вытаскивая из бокового ящичка для мелочи какие-то узелки и свёртки. И Касьян, глядя на её согбенную спину, не посмел окликнуть, пока она сама, почуяв чьё-то присутствие, не повела взглядом в его сторону. И взгляд этот, оторванный от сундука, был какой-той чужой, не признававший Касьяна.
— Ну, мать, пошёл я, — негромко, с заведомой бодрецой объявил он, рассчитывая и тоном и видом смягчить и облегчить ей это прощание. Нынешней ночью она, наверно, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо её ещё больше обрезалось, жидкие изношенные волосы, сумеречные впалости глаз
и беззубого рта скорбно обозначали очертания проступившего праха, и Касьян только теперь неутешно осознал, как враз состарилась его мать, как близка она к своему краю. А она, озабоченная чем-то своим, то ли вовсе не слыхала, то ли не поняла Касьяновых слов, сказала ему свое:
— Хотела найтить… Да вот, вишь, не найду, запамятовала. Наталья, ты, часом, не видела, был тут у меня обвязочек…
— Потом, мать, потом…- перебил Касьян. — Идти надо. Побёг я.
— Побёг? — повторила она за Касьяном, всё ещё странно отсутствуя, дознаваясь взглядом какой-то своей пропажи. — Уже и пошёл? Ох ты, осподи! А я-то хотела тебе найтить. Взял бы с собою… Сколь берегла, от самого твоего рождения. Про такой-то случай. Да, вишь, не уберегла. Памяти совсем не стало. Да как же это пошёл? Деток не повидавши… Сичас, сичас побужу. Ох, горе, вот горе…
— Не надо бы их, — попробовал отговорить Касьян, проследовав с ней за полог. — Я пока на конюшню токмо. Опосля еще свидимся.
— Как же не надо, как же это не надо? Уходишь ведь! Наталья, поднимай дитев, чего ж ты как не своя. Проснись, Митрий. И ты, Сергий, не спи. Будя, будя вам. Проспите отца-то. Ой, лихо! — Она подхватила на руки младшего, всё ещё никак не хотевшего держать голову, безвольно ронявшего её на бабушкино
плечо. — Да что ж вы, как маку опились. Опамятуйтеся, сказано. Батька вон уходит, а вам бай дюже. Придёт ли опять…
И только теперь, будто ударившись об это «опять», бессильная высказать боль свою и смятение, молча заплакала, смяв ветхие морщинистые губы. Пришёл в себя и, еще ничего не поняв, сразу же заревел и Митюнька.
— Ох да голубчики мои белы-ы, — наконец вырвался на волю бабушкин взрыд. — Да сыночки ж вы мои послед-нии-и…
Глядя на неё, крепившаяся все эти дни Натаха подшибленно ойкнула, надломилась, пала, не блюдя живота, в Сергунковы ноги, беззвучно затряслась, задвигала скрипучим топчаном. Растревоженный Сергунок испуганно отобрал у матери ноги, подскочил, присел на постели и теперь, заспанный и сумной, понуро молчал, ни на кого не глядя.
— Ох да на то ли я вас, сыночки, лелеяла-а, — раскачивалась вместе с Митюнькой бабушка. — На то ль берегла-а на черну да на бяду-у. — И, заметив насупленно молчавшего Сергунка, вдруг, в плаче же, запросила-запричетывала: — Плачь, плачь, Сергеюшко-о… Не молчи, не томись, каса-а-тик… Да нешто не видишь, горя какая наша-а…
Она потянулась к Сергунку незрячей, слепо искавшей рукой, но тот уклонил свою голову, нелюдимо отшатнулся от непонятно кричавшей бабки.
— Да что ж ты не плачешь, упорна-ай… Пожалей, пожалей свово батюшку-у… Ох, да на што сиротит он нас, на што спокида-а-ить…
Не хотел ничего этого Касьян, надо бы уйти сразу, да вот стой теперь, слушай, и он, чувствуя, как опахнуло его изнутри каким-то тоскливым сквозняком, вышагнул в кухню и сдернул с гвоздя пиджак. И уже одетый, не таясь пробуженной избы, гулко топая сапогами, вернулся в горницу за мешком.
— Ну всё, всё! — оповестил он, засовывая рукава в мешочные лямки. — Наталья! Будя, сказано! Бежать надо.
Перетянутый лямками по чёрному пиджаку и черной рубахе, уже какой-то не свой, непривычный, Касьян взял у матери Митюньку, присел с ним на сундуке. Сергунок соскользнул с топчана и, босоного прострочив горницу, прилепился рядом.
— Сядьте, посидим, — объявил Касьян.
Мать и Натаха, всхлипывая, послушно присели. И стало слышно, как в едва державшейся, насильной тишине стенные ходики хромоного, неправедно перебирали зубчики-секунды… Пытаясь все закруглить по-доброму, не дразнить больше слез, Касьян наконец первый нарушил эту немую истому, воскликнув с шутейной бодрецой:
— Ну, Сергей Касьянович! Прощевай! Чегой-то штанов не надеваешь? Пупком на всех светишь? А? Давай-ка, хозяин, руку, досвиданькаться будем.
Сергунок, хмуря белоперые отметины бровей, замешкался, не сразу подал руку и не шлёпнул ответно, как Касьяну хотелось, а вяло, чем-то неволясь, положил ладошку на поджидавший его широкий плот отцовской пятерни.
— Эвон какая ручища-то! — продолжал бодро играть Касьян. — Ну прямо мужицкая! Топором токмо махать або косой. Ну дак и уступлю тебе все свое. Избу вот… Струмент всякий… Поле — сам знаешь где. Хозяйствуй знай! А?
Пока Касьян говорил, удерживая сынову руку, тот всё ник и ник взъерошенной головой, и никак не удавалось Касьяну заглянуть ему в глаза, чтоб их запомнить и унести в памяти.
— Подойдёт время — учись, старайся. Ага? Постигай, наматывай. Где, к примеру, немец обретается, что это за земля такая? Чтоб знать наперёд, понял? — Он говорил случайное, не зная, что ещё наказать непонятно затворившемуся мальцу. — Ну дак, ясное дело, перво-наперво мать слушайся. И бабушку. Это уже само собой.
Сергунок, не убирая руку с отцовской ладони, молчал, вздув наспанные губы.
— Да чего с ним сдеялось-то? — охнула бабушка. — Как окаменел малый. Ты скажи, скажи слово-то отцу. Нешто тоже эдак-то немтырем молчать. Экой упорной! Хватишься потом, да некому будет…
— Ладно, мать, ладно. Не замай его. Это со сна он… И ты, Митрий, тож слушайся тут, не докучай. — Касьян притянул на грудь младшенького, потрепал, потискал и, поцеловав трижды в непросохшие глаза, опустил на пол. — Ну, ступай к мамке, ступай!
Бабушка снова украдкой прослезилась какой-то остатней слезой, не одолевшей морщинок: главные свои слёзы, никем не слышанные, никем не виданные, она выплакала еще до этого дня в одиноком своем запечье.
— Ну, дак пора мне, — опять объявил Касьян, вставая с сундука и озирая напоследок углы и стены. Миром живите.
Поочерёдно пообнимавшись с женой и матерью, которые снова ударились в голос, оделив их, не слушавших, торопливыми утешными словами, какие нашлись, какие попадя подвернулись, Касьян с перхотой в горле, стиснув зубы, нырнул в горничную дверь, схватил по пути картуз с кухонного простенка и вылетел во двор. Вслед на крыльце засумятились, запричитали, но он, кургузясь под
тяжестью сумы, крепясь не обернуться, через силу порывая липучие тенета отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалость к оставшимся в нём, топча её сапогами, крупно, неистово пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке. И вдруг, уже ухватясь за спасительную щеколду, услышал звеняще-отчаянный голосок, пробившийся сквозь бабьи вопли:
— Папка! Папка-а!.. Я с тобой!.. Я с тобой, пап-ка-а-а…
Остановился Касьян, похолодел, сжался нутром, будто левым соском напоролся на вилы: перед сенечным крыльцом, отбиваясь от бабкиных и материных рук, барахтался на земле Сергунок, так и не успевший в суматохе натянуть своих покосных штанов, — крутился вертким вьюном, бил-колотил
ногами, тянул к нему руки.
— Папка-а! Я с тобой!
Касьян хотел уже было вернуться, как-то успокоить мальца, но на него замахали сразу и мать и Натаха, закричав: «Нельзя, Касьян! Не вертайся, ради бога!»
И он поспешно рванул калитку. И когда, не обращая внимания на ветки, обдираясь вишеньем, уходил
садом, и когда потом косил напрямки по чужой картошке, его долго ещё настигал и больно низал этот тоненький вскрик, долетавший с подворья:
— А-а-а…”
18/ Перед построением у конторы:
“Касьян отвертел шею, высматривая, пока наконец на конторском въезде не объявилась Натаха с обоими ребятишками. Касьян ещё издали узнал её не столько по голубой просторной кофте в розовую повитель, сколько по тому, как двигала-совала она ногами, широко ставя их от себя и переваливаясь с боку на бок, как зобастая утица. Митюнька, взлётывая на встречном ветру белыми волосёнками, скакал бочком, будто пристяжной, об руку с матерью, Серенька шмыгал новыми штанами сам по себе.
Давно ли из дому, но вздрогнуло все в Касьяне при виде своих на этом куске дороги, как если бы глядел он из дверей эшелона, что уже стоял под парами, вот-вот должен был лязгнуть крюками и отойти. Он торопил Натаху глазами и даже помахал кепкой, но, не выдержав, сам поспешил навстречу.
— Папка-а! — звеня голосом, ликуя, не веря, закричал Сергунок, выплескивая все разом в своём восклицании, в одном только слове, которое в эту минуту сделалось главным, единственным, заменившим все остальные ненужные слова, ровно бы забытые начисто, и, как тогда, на сенокосе, первым сорвался бежать и, добежав, повис на руке, засматривая в лицо Касьяна, повторяя уже умиротворенней, со счастливым облегчающим всхлипом: Папка…
— А я жду, а вас нету и нету, — сквозь терпкую горечь проговорил Касьян. — Нету и нету…
Тут же налетел Митюнька, молча, должно быть в подражание старшему, обхватил и повис на другой отцовской руке, и Касьян, связанный, распятый ребятишками, так и стоял посередь дороги, пока не подошла Натаха.
— А где же мать? Мать-то чего?
— Ох, да ну её! — перевела она дух. — Сичас да сичас… Четой-то ищет… Говорит, идите пока… Ну чего тут у вас? Скоро ли?
— Да вот ждем… Уже небось десять, а пока ничего”.
19/ Материнский наказ и оберег:
В эту тихую на площади минуту кто-то тронул сзади Касьяна. Он обернулся и, враз ватно обмякнув, увидел мать. Серая в своей сарпинковой одежке, в сероклетчатом бумажном платке, она пробралась через ряды и мышью потеребила Касьяна.
— Дак нашла, нашла я! — радостно шептала она, торопливо вкладывая в его ладонь тряпичный комок. — Тут пуповинка твоя. Пуповинка. От рождения твово. На случай берегла. Дак вот и случай. Бери, бери, милай. Так надо, так надо…
Касьян пытался заслонить мать спиной, уберечь её от лейтенанта, но тот, заметив какой-то непорядок в строю, уже строго нацелился в его сторону, и Касьян отстранил от себя мать:
— Ступай, мама. Нельзя…
— Иду, иду… — поспешно, согласно закивала она и, воздев руки, — маленькая, едва по Касьяново плечо, — немощно потянулась к нему с лихорадочно-поспешным поцелуем.
— Ну, час добрый! Час добрый, сынок. Смотри там… Храни тебя господь.
20/ Прощание с сынами:
Касьян, окликая с дороги отстававших баб, оглохших и беспонятных: «Сторони-ись! Эй, берегись там!» — ехал в первом возу, держась поодаль от колонцы, чтобы не хлебать понапрасну пыли. Со своими он распрощался еще у конторы, обе, и мать, и Натаха, — без ног, на последнем пределе, куда ж им
было ещё бежать, какие там провожанья. Взяв с собой ребятишек, всё время моляще глядевших на него, ловивших каждое его движение, пока в последний разобходил лошадей, поправлял упряжь, и уже с возка, выбрав и натянув вожжи, придерживая коней, застоявшихся у коновязи, нетерпеливо попросил: «Всё, всё, Наталья! Мам, всё!» Женщины покорно отступились, отпустили грядку, и он с места взял рысью. Но ещё до ветряка, отъехав с четверть версты, круто остановил и, поцеловав оробело-притихших сыновей: «Ну, сынки…» — ссадил их с повозки, и те, держа друг дружку за руки, остались стоять на дороге, глядя вослед пыльному облаку, поднятому отцом, догонявшим отряд…”
21/ Напутствие из села Гремячьего:
Колонна пересекла село поперёк, с горы на гору, и пока шли ложбиной, на виду у обоих улиц, из дворов высыпали бабы и ребятишки, молчаливыми изваяниями уставясь на проходившее ополчение, на серых, пропыленных мужиков.
— Чьи, голуби, будете? — спросил какой-то трясучий белый старик, сидевший в тени, под козырьком уличной погребицы, когда колонна поднялась на левую сторону.
— Усвятские! — выкрикнули из рядов.
Старик трудно, опёршись о раскосину, поднялся и снял с головы мятую безухую шапку.
— Кто ещё через вас проходил, отец? — спросил Давыдко.
— Того часу Никольские пробегли да хуторские, — оповестил старик.
— А ваши пошли-и?
— Дак и наши. Али не видите, пустое село. Одногалицы да галченята малые. Пошли и наши, а то как же. Полтораста душ.
— На Верхи верно ли правим?
— На Вершки? Дак вон они, за нами и будут. — И уже вослед крикнул больным, надрывным голоском:
— Ну дак придяржите ево! Не пущайте дале! Не посрамите знаме-он!
— Постоим, отец! Постоим!
— Тади лёгкого поля вам, лёгкого поля!
Старик трижды поклонился белой головой, касаясь земли снятой шапкой”.
…
Наш народ знает, что 9 мая не наступило бы без 22 июня…
Будем помнить!
В. Михайлов
июнь 2021
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.