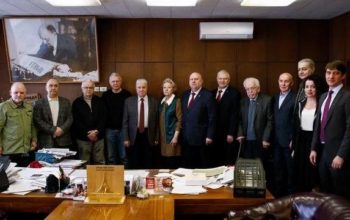По материалам публикаций на сайте газеты «Правда»
Автор — Руслан Семяшкин
Сегодня, когда речь заходит о больших советских творцах, словно по какой-то негласной команде сверху, сознательно не говорят об их убеждениях, о взглядах на окружающий мир, о преданности Советской власти и Коммунистической партии. Оно в общем-то и понятно, так того или иного художника представить куда как проще. Вот, дескать, жил, творил, но от политики был далёк. А то и вовсе Советы не любил, хотя и помалкивал. Или просто был аполитичным. Жил своей закрытой жизнью. Ну чем, скажите, не идеальная картина?
Да, для нынешних нуворишей от искусства картина благостная, радующая замутнённый глаз. Вот только правда заключалась в ином. Большинство художников той славной эпохи были всё же советскими. Советскими по духу, мировоззрению, взглядам на жизнь. Таким всецело советским художником был и выдающийся скрипач, дирижёр Давид Ойстрах, чей 115-летний юбилей со дня рождения приходится на 30 сентября текущего года.
«Моё формирование как музыканта происходило в первые годы революции, в трудный период становления Советского государства, — писал Давид Фёдорович в апрельском номере журнала «Советская музыка» за 1970 год. — Идеи Октября, идеи Владимира Ильича Ленина нашли живой отклик в среде прогрессивных музыкантов старшего поколения, моих учителей и коллег. Будучи тогда очень молодым, я, тем не менее, уже в то время воспринял от них мысль о том, что мы, музыканты, нужны нашему государству, что мы обязаны стать верными помощниками делу революции. Воспитанный, как и мои сверстники, на таких идеалах, я не мыслю своей деятельности вне задач нашей партии, нашей страны. И как же велики эти задачи, как почётны они и ответственны! Разве в первых же декретах Советской власти, подписанных Лениным, не указан весь дальнейший путь нашей культуры, и в частности музыкального искусства? Разве не заботам Ленина мы обязаны тем, что в столь бурные годы нам удалось сохранить сокровища живописи и литературы, замечательные музыкальные учреждения, театры, консерватории, наконец, даже музыкальные инструменты и ноты?»
Приведённая пространная цитата из небольшой статьи, написанной к столетнему юбилею Ленина, о многом говорит. И прежде всего о том, что один из самых знаменитых и чрезвычайно талантливых скрипачей XX столетия, дирижёр и педагог, которому рукоплескали во многих странах мира, признавая его неоспоримый гений самобытного, талантливого музыканта, был искренне верен своему государству и партии коммунистов. Ведь они дали ему реальные возможности профессионально расти, совершенствоваться, покорять новые вершины и выходить на мировые просторы, где у него с каждым годом становилось всё больше поклонников, восхищавшихся талантом этого скромного маэстро из Советской России. Из той самой, где талантливых мастеров не могло быть априори, где их власть якобы зажимала, создавала им невыносимые условия и заставляла творить по заказу.
К подобной чуши, не единожды слышимой ими на Западе, они не просто привыкли, но и относились философски. Собака лает — караван идёт. Да и трудно переубеждать зомбированных людей. Куда интереснее общаться с теми, кто прекрасно осознавал, что в «несвободной» стране никак не могли свободно творить такие глыбы, как Ойстрах. Причём творить во всю мощь, задействовав весь свой недюжинный потенциал. Да и условия ведь им создавались удивительные, позволявшие не испытывать материальных трудностей и работать в комфортных, оснащённых лучшими приспособлениями и инструментами музыкальных залах и консерваториях.
Всё это Ойстраху было прекрасно известно, ведь путь его в музыке начинался в юношеские годы и говорить правду за рубежом для него посему не представляло никакого труда. Да и немало было тех, кто эту правду принимал и воспринимал, причём в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Швеция, Италия, Япония и других, в которых творчество Ойстраха по большому счёту превозносили столь высоко, что на концерты мастера мечтали попасть, считая такую возможность настоящим везением. А в тех же всемирно известных Кембриджском и Оксфордском университетах музыканту присвоят почётную степень доктора, признавая тем самым выдающийся вклад Ойстраха в мировое музыкальное искусство.
Помимо этого, Ойстрах состоял почётным членом Королевской академии музыки (Великобритания), музыкальной академии «Санта Чечилия» (Италия), Американской академии искусств и наук (США), Шведской музыкальной академии (Швеция), Немецкой академии искусств (ГДР). Он был избран почётным профессором Музыкальной академии имени Ференца Листа (Венгрия), почётным членом Бетховенского общества и Общества друзей музыки (Австрия). За свои записи скрипач неоднократно получал «Гран-при» различных зарубежных фирм.
Один из самых известных дирижёров XX века, американец Юджин Орманди вспоминал: «Давид Ойстрах был не только величайшим скрипачом нашего века, но и одним из величайших людей, с которым сталкивались я и наш оркестр.
Глубокая и искренняя дружба между нами началась на первой же репетиции, когда он играл с Филадельфийским оркестром (в 1955 году). И наше уважение к его артистизму и к тому, что он знал не только скрипку, но и музыку и исполнительское искусство вообще, возрастало с каждым концертом.
Трудно проанализировать гений Ойстраха, но, несомненно, в нём отражалась многогранность и великого человека, и великого музыканта».
А известнейший британский музыкальный продюсер прошлого столетия Вальтер Легге, впервые услышавший Ойстраха в 1937 году в Лондоне на приёме в советском посольстве, писал: «Ойстрах принадлежал к категории безупречных исполнителей: у него не было ничего случайного, каждая нота, каждая краска, каждый нюанс были отточены настолько, что всякие неточности при публичном исполнении исключались… К тому же всё освещалось вдохновением и фантазией художника… Он был больше музыкантом-скрипачом, нежели инструменталистом-скрипачом. Техническая мощь Ойстраха была безгранична, но он избегал исполнять чисто виртуозные пьесы из музыкальных соображений. Характерно, что первым произведением, сыгранным на бис в «Карнеги-холле», был «Листок из альбома» Вагнера — медленная пьеса, не требующая ничего, кроме благородного легато и искреннего музыкального выражения. Когда он кончил играть, я посмотрел в соседнюю ложу, где сидел Исаак Стерн (всемирно известный американский скрипач. — Р.С.), и увидел, что его глаза, как и, без сомнения, глаза сотен других слушателей, были полны слёз…»
При этом нельзя не сказать, что сам Ойстрах был дружен не только с упомянутыми музыкантами, но и с большинством других самых маститых, с мировой славой музыкантов-скрипачей XX столетия. И все они признавали Ойстраха выдающимся своим собратом по искусству, отдавая ему должное и считая за честь быть с ним в добрых отношениях.
Выдающийся русский советский композитор Дмитрий Кабалевский вспоминал о том, как он в начале 1945 года, когда ещё не окончилась война, был в Хельсинки и навестил там патриарха финской музыки с мировым именем Яна Сибелиуса. Эта встреча проходила в загородном доме выдающегося композитора, где тот жил постоянно и много лет, никуда не выезжая, даже в столицу на музыкальные фестивали, посвящённые его музыке. «Сибелиус рассказал мне, что, невзирая на то, что это грозило судом военного трибунала, он старался в военные годы слушать по радио музыку из Советского Союза, — рассказывал Дмитрий Борисович. — И на мой вопрос, что из услышанного произвело на него наибольшее впечатление, он, не задумываясь, ответил: «Скрипичный концерт какого-то композитора с армянской фамилией в исполнении замечательного скрипача со странной фамилией вроде Остер…» Надо ли разъяснять, что это был концерт Арама Хачатуряна в исполнении Давида Ойстраха…»
Содружество Давида Фёдоровича с Арамом Ильичом можно рассматривать как синтез мысли, таланта, уникального трудолюбия, артистичности, виртуозности двух гениев. Но в жизни нашего героя присутствовали ещё два его наставника, без которых творческое восхождение к вершинам мастерства было бы невозможным. Это великие Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович. Хотя яркой страницей биографии Ойстраха было и сотрудничество с тем же Кабалевским. Большим событием следует считать и творческое содружество скрипача с легендарным Николаем Мясковским. Именно Ойстраху доверят они исполнение своих скрипичных произведений. И всё же триумвират Прокофьев — Шостакович — Хачатурян, пожалуй, на его работе отобразился в наибольшей степени.
Скрипичный концерт Хачатуряна Ойстрах впервые исполнит в 1940 году, а Вторую сонату для скрипки и фортепьяно Прокофьева он представит слушателям в 1944-м. Впервые услышавший скрипача в 1934 году Шостакович через два десятилетия подарит ему свой Первый скрипичный концерт, а затем очередной концерт и сонату. И все эти сочинения Ойстрах исполнит блестяще. Добрые, дружеские отношения сложатся у него с этими выдающимися композиторами, и поддерживаться они будут, что называется, до последнего. Фактически именно они станут теми светилами, которым представится возможность стать для скрипача друзьями-наставниками, к которым он всегда будет прислушиваться. Той же монетой будут отвечать ему и эти корифеи, признавая его бесспорный музыкальный гений.
«Ойстрах и скрипка, Ойстрах и музыка — эти понятия стали неразрывны, — писал Шостакович. — Его замечательное искусство давно завоевало мир. Не было уголка на земле, где бы не восхищались его удивительной, неповторимой игрой. Громадный репертуар Ойстраха включал в себя произведения мировой музыкальной классики, современной советской и зарубежной музыки. Многие скрипичные произведения впервые прозвучали в его исполнении, в том числе и мои. В последние годы Давид Фёдорович увлёкся дирижированием. И тут его могучее дарование проявилось с истинной глубиной и блеском».
«Давид Ойстрах был гениальным скрипачом, — говорил Хачатурян, — изумительным музыкантом, всесторонне развитым человеком. Он был настолько одарён, что поднимался в искусстве выше многих замечательных музыкантов современности…
На всём творчестве Давида Ойстраха, что бы он ни делал — играл, дирижировал, преподавал, — лежал особый отпечаток яркого индивидуального стиля, высокой гуманистичности — драгоценных качеств, присущих лишь великим музыкантам».
Крупнейшие наши композиторы не кривили душой, произнося эти слова, прозвучавшие тогда, когда Давид Фёдорович уже покинул этот мир. Они говорили ему их и при жизни, зная о том, что в нём не было ни заносчивости, ни самолюбования, ни амбиций. Всю жизнь оставаясь необычайно скромным человеком, Ойстрах к своей всесоюзной и мировой славе относился спокойно, без лишней суетности и эмоциональности, воспринимая её как должное признание его заслуг перед музыкальным искусством.
Не о званиях и наградах думал он, когда начинал свой артистический путь. «…Я могу точно утверждать, что появился на свет вместе с инструментом. Играть — это мне всегда легко удавалось и полностью вошло в мой психологический повседневный процесс», — скажет скрипач в интервью одному из изданий ГДР. И словами этими как бы приоткроет завесу в свой богатейший внутренний мир, вращавшийся вокруг музыкального искусства и, естественно, скрипки, впервые очутившейся в его руках в четырёхлетнем возрасте. И не просто оказавшейся на какое-то время, а закрепившейся в этих тонких и виртуозных руках на всю последующую жизнь, увы, прервавшуюся достаточно рано, на взлёте, при наличии многих нереализованных планов и начинаний, которые, в какой-то мере, попытается воплотить в жизнь сын Давида Фёдоровича — талантливый скрипач Игорь Ойстрах.
Столь раннее знакомство со скрипкой, наверное, не было случайным. Давиду посчастливилось родиться в очень музыкальной семье. Его отец играл на скрипке, а мать пела в хоре Одесского оперного театра, и начиная с четырёх лет он уже стоял за кулисами во время репетиций или сидел в оркестре. Заниматься же на скрипке Ойстрах начнёт с пятилетнего возраста, и педагогом его станет Пётр Столярский, совмещавший тогда педагогическую деятельность с игрой в оркестре Одесского оперного театра. Этому выдающемуся наставнику, стоявшему в те годы во главе музыкальной школы, и выпадет честь воспитать впоследствии всемирно известного скрипача. Благо в руки одарённого учителя попадёт «податливый материал». Мальчик в действительности проникнется любовью к музыке, к инструменту, он привыкнет к упорному труду и осознает все его преимущества.
Годы учёбы Давида пришлись на время Первой мировой войны. Отец его был призван в армию, и семье материально жилось очень трудно. Не раз, в силу объективных причин, приходилось «делать невольные перерывы в занятиях».
Жизнь между тем бурлила. Февраль, Октябрь 1917 года, интервенция, Гражданская война. «Наконец, в Одессе твёрдо установилась Советская власть, — писал Ойстрах в статье «Мой путь», подготовленной к пятидесятилетнему юбилею и опубликованной в журнале «Советская музыка» (1958, №9). — Вспоминаю первые заботы о нас, учащихся школы Столярского. Нам стали выдавать специальный паёк хлеба. Именно тогда у меня впервые зародилось очень радостное сознание, что мы кому-то нужны, кто-то, очень важный и большой, считает необходимым поддерживать нас, маленьких скрипачей. Не забуду день, когда я, счастливый и гордый, пришёл домой и выложил на стол целую буханку хлеба — полученный мной от государства паёк за неделю».
Молодой Советской власти дело было не только до маленьких одесских скрипачей. Как известно, с первых своих дней она основательно взялась поддерживать культуру и искусство. Все эти новшества прошли на глазах у совсем юного Ойстраха. И он не мог не радоваться и не гордиться тем, что его скрипичная игра востребована. Тем более что с каждым годом он не переставал профессионально расти, совершенствоваться, обрастать мастерством и практическими навыками.
Первый сольный концерт Ойстраха состоится в Одессе в 1924 году. На нём он исполнит концерт Баха, «Дьявольские трели» Тартини, «Цыганские напевы» Сарасате и ряд виртуозных пьес. В одесских газетах тогда появятся и первые рецензии, отметившие успех концерта и положительную игру юного исполнителя.
«Вспоминаю себя в те годы, — писал Давид Фёдорович, — и мне представляется, что играл я тогда достаточно свободно, бегло, интонационно чисто. Однако впереди ещё были долгие годы упорной работы над звуком, ритмом, динамикой и, конечно, самое главное — над глубоким постижением внутреннего содержания музыки».
Тут впору сделать важное уточнение. В силу своей скромности, Ойстрах не считал необходимым серьёзно заниматься беллетристикой, так как являлся в первую голову музыкантом и в общем-то не обладал свободным временем. Потому и не оставил потомкам обширных мемуаров. Но, отметим, при этом над «глубоким постижением внутреннего содержания музыки» он продолжал работать на протяжении всей своей жизни. И оно-то, к счастью, и позволило ему в зрелые годы встать за дирижёрский пульт. Тем самым он как бы поднимется на ступень выше, с которой и заявит о своих феноменальных возможностях не просто музыку слышать и постигать, а и внедряться в самое её существо, в те начала, без которых не было бы возможным её рождение.
Безусловно, к дирижёрской деятельности, как и к высотам музыканта-скрипача, Ойстрах придёт не сразу. Этому будут предшествовать долгие годы кропотливого труда, обучение в Одесской консерватории (по классу П.С. Столярского), которую он окончит в 1926 году, активная гастрольная деятельность.
Двадцатилетним перспективным музыкантом, подающим надежды и уверенно о себе заявившим, Ойстрах переезжает в Ленинград, а затем, буквально через пару месяцев, в Москву, ставшую для скрипача родной и любимой.
Первое время, по воспоминаниям Ойстраха, в столице он был «чужим» и ему приходилось выступать «главным образом в качестве «антуража» в концертах известных певцов и балерин». Но по прошествии десятилетий скрипач этому опыту окажется благодарным. «Должен сказать, что эти выступления оказались очень полезными, так как благодаря им я объездил всю страну, познакомившись с широкой демократической аудиторией».
И всё же переезд в Москву сыграл в жизни Давида Фёдоровича важную роль. Это помогло ему не только попасть в профессиональную музыкальную среду, но и приобщиться к московской культурной жизни, дававшей возможность посещать театры и выставки, концерты и музеи, ну и, конечно, общаться с интересными людьми, артистами, музыкантами, представителями других сфер культуры и искусства.
С 1931 года молодой Ойстрах станет выступать в Москве и с сольными концертами, вначале в Малом зале консерватории, а затем и в Большом. А в 1933 году он впервые сыграет в один вечер сразу три концерта — Моцарта (Четвёртый), Мендельсона и Чайковского. И сыграет успешно: публика его выступление воспримет более чем благосклонно.
Талантливого, одарённого скрипача, что и не удивительно, заметят профессионалы, и уже в 1934 году по предложению директора Московской консерватории профессора Александра Гольденвейзера Ойстрах приглашается в состав педагогов Московской консерватории. А было-то ему всего каких-то двадцать пять лет. Но явные дарования молодому музыканту скрыть было никак нельзя. Для специалистов же стало очевидным, что Ойстрах обладает не только артистизмом, а чем-то значительно большим. И большее это вращается в других плоскостях, в том числе и в педагогической.
Мудрые наставники тогда примут верное решение. До конца своей жизни Давид Фёдорович будет заниматься преподавательской деятельностью. В 1971 году журналисту из ГДР Ойстрах с гордостью поведает: «Несмотря на мою многостороннюю деятельность, каждую свободную минуту я отдаю в Москве преподаванию в консерватории имени Чайковского и думаю, что занимаюсь со своими учениками успешно. Я очень люблю эту работу. Здесь часто получаешь новые знания, находишься в общении с молодыми людьми. Я счастлив, что у меня много высокоодарённых учеников и учениц. Среди них уже есть молодые мастера. Из моего класса вышли 17 скрипачей, имеющих первые международные премии, многие другие успешно проявили себя на международных конкурсах».
Среди учеников Ойстраха было немало лауреатов всесоюзных и международных конкурсов, а также скрипачи из Франции, ФРГ, Нидерландов, Австрии, Югославии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польши, Турции, КНДР, Австралии.
О том же, каким Ойстрах был педагогом, откровенно высказывался известный советский и российский скрипач и музыкальный педагог, народный артист РСФСР Виктор Пикайзен: «Говоря о работе Давида Фёдоровича с учениками, я бы отметил прежде всего его доброжелательность. Всегда он умел выделить в игре ученика что-то хорошее, ободрить его, вдохнуть в него веру в себя. Второе: подобно тому, как Давид Фёдорович феноменально читал с листа любую музыку, представляя её в своём уме заранее, так он моментально ощущал, как его ученик настроен, собран он или разболтан, над чем он больше работает, над чем меньше…
Основное внимание Давид Фёдорович обращал на музыкальное становление ученика, в то же время он энергично боролся против всякого оригинальничанья, вычурности. Всё должно было идти от музыки. Даже в чисто виртуозных пассажах он советовал найти музыкальный смысл».
Такое отношение к творчеству было для Ойстраха столь же естественным, как повседневная работа с инструментом. И к нему он пришёл не только потому, что получил блестящее музыкальное образование и имел возможность общаться с лучшими музыкантами того времени, придерживавшимися строгих правил. Дело было ещё и в том, что считал музыку серьёзным занятием, не дающим основания для проявления расхлябанности, небрежности к исполнению своих обязанностей, вседозволенности, каких-то экспериментов, уводящих от глубинных основ, заложенных в то или иное музыкальное сочинение. Строгое следование первоисточникам позволяло, разумеется, над музыкой работать, интерпретировать, но, по разумению Ойстраха, «интерпретатор должен учиться умению подчиняться желанию композитора». «Это трудно, — говорил выдающийся скрипач и дирижёр, — особенно в молодости. И только с годами приходит понимание ответственности за правильную интерпретацию, а также умение разбираться во внутреннем мире музыки. Но в конце концов это приводит к индивидуальному пониманию и обеспечивает собственную трактовку».
Педагогическая деятельность Ойстраха была столь многогранной, что уже в 1939 году, после пяти лет её ведения, ему присвоят звание профессора. И это при том, что она не являлась для него основной, так как прежде всего он продолжал оставаться артистом. Причём успешным, добивавшимся весомых результатов и побеждавшим на различных музыкальных конкурсах. Так, в 1935 году Ойстрах завоёвывает первую премию во II Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей и вторую премию в Международном конкурсе имени Г. Венявского в Варшаве.
Блистательную победу одержит он в 1937 году и на Международном конкурсе имени Э. Изаи в Брюсселе, с которого, собственно, начнётся его всемирная популярность. Там же он познакомится с известным австрийским скрипачом и композитором Фрицем Крейслером. Тот даст высокую оценку игре молодого советского скрипача, который буквально произвёл тогда настоящий фурор и показал силу и мощь советской скрипичной школы. В этом же году родится и сонатный дуэт Ойстраха и известного пианиста Льва Оборина, с которым они будут поддерживать добрые отношения и в последующие годы.
Предвоенные годы отметятся также и тем, что в 1939 году Ойстрах впервые исполнит посвящённый ему концерт Мясковского, а годом позже — посвящённый ему концерт Хачатуряна. Уникальное событие будет ожидать советских слушателей и в 1941 году. На свет появится трио: скрипач Ойстрах — пианист Оборин — виолончелист Святослав Кнушевицкий. Просуществует же это трио до 1963 года — года смерти Кнушевицкого.
Военное лихолетье потребовало от Ойстраха полной отдачи сил и энергии, этим он как бы вносил и свой личный вклад в общее дело борьбы с ненавистным врагом. Отказавшись покинуть Москву, он был в числе тех музыкантов, которые продолжали давать концерты в холодных, но переполненных залах, встречавших артистов тепло и доброжелательно. Силами этих бесстрашных артистов-патриотов ни на один день не прекращались транслировавшиеся на весь Советский Союз и на многие страны мира передачи музыкального радиовещания. Это был голос непокорённого народа, голос, который раздавался из самого сердца большой и любимой Родины, заявлявшей тем самым о том, что мужество и уверенность в победе живут не только в артистах, они живут в каждом советском человеке, продолжающем трудиться, бороться и верить в добро и справедливость.
Но не только в Москве играл тогда скрипач. Он летал в осаждённый Ленинград и выступал там перед его героическими защитниками. Гастролировал он также в Свердловске, Челябинске, Магнитогорске, Вологде. Был он в то суровое время и членом военно-шефской комиссии Московской консерватории, участником концертов «Консерватория — фронту».
О том, как проходили те концерты, вспоминал Арам Хачатурян: «2 августа (1942 г. — Р.С.) в Свердловске Ойстрах исполнил мой Скрипичный концерт. Был полный сбор, несмотря на жару и ливень. Я удовлетворён и игрой, и степенью успеха. Обычно артисты успех измеряют тем, сколько раз вызвали и сколь шумно вела себя аудитория. Так вот — вызвали Ойстраха 5 раз, меня 4, и аудитория сильно шумела!»
В самое грозное для Советского государства время, в 1942 году, Ойстрах становится членом Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), идеалам которой служил своим творчеством, своей общественной деятельностью до самого конца своей жизни.
А в 1943 году его удостоят Сталинской премии первой степени. «Радостно сознание того, что служение любимому искусству, отражающееся в моей концертной деятельности, получило столь высокую оценку Партии и Правительства, — писал Ойстрах в опубликованном «Правдой» письме на имя тов. Сталина. — Я вношу полученную премию 100000 рублей в особый фонд Главного командования для скорейшего разгрома вражеских полчищ — губителей мировой культуры и искусства…»
После предыдущей высокой награды в 1953 году Давида Фёдоровича удостоят высокого звания народного артиста СССР, а в 1960-м ему присвоят Ленинскую премию. Также Советское государство его наградит двумя орденами Ленина и двумя орденами «Знак Почёта», многими медалями.
В послевоенные годы и вплоть до самой смерти, случившейся 24 октября 1974 года в Амстердаме, где он возглавлял жюри V Международного конкурса имени П.И. Чайковского, Давид Ойстрах будет жить насыщенной жизнью артиста, дирижёра, педагога, общественного деятеля, страстного пропагандиста музыкального искусства. Таким жизнерадостным виртуозом он и запомнится своим соотечественникам и мировой музыкальной общественности, и сегодня называющей его одним из самых великих скрипачей XX столетия. Давайте же и мы не будем забывать этого доброго гения.
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.