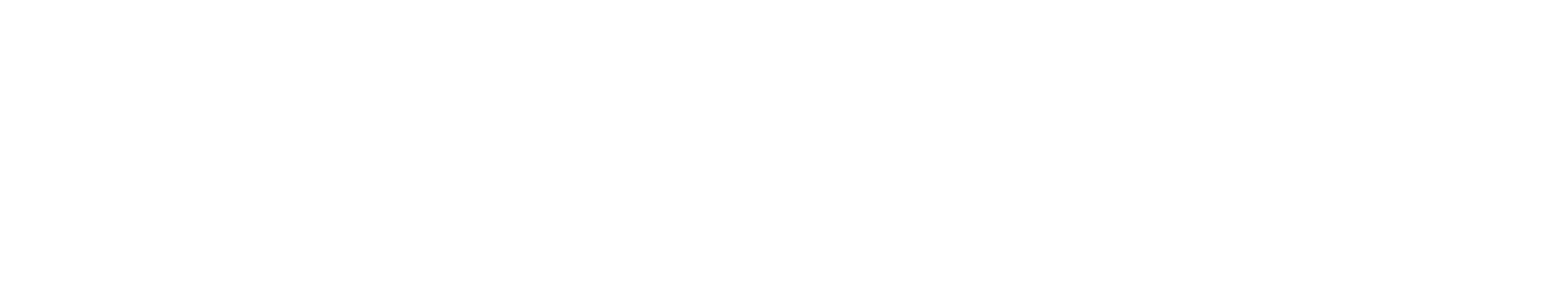По материалам публикаций на сайте газеты «Правда»
Автор — Л.Т. Космодемьянская
Как-то не совмещается столь преклонный юбилей с героиней, навсегда оставшейся восемнадцатилетней. Именно такой живёт она в памяти всех, кто чтит её — с благодарностью, восхищением и любовью.
Но время неостановимо, и факт есть факт: 13 сентября нынешнего года исполнится уже целый век с того дня, когда пришла она в земную жизнь. Для неё эта жизнь оказалась очень короткой, и можно даже подумать, что дана была ей, дабы совершить свой незабываемый бессмертный подвиг.
Конечно же, он стал славной страницей подвига всего советского народа, одержавшего Великую Победу над злейшими врагами человечества. Однако уверенно повторю сейчас то, что написал в моей книге о Зое Космодемьянской. Ей, Зое, принадлежит особое место среди самых святых для нас имён в пантеоне героев и мучеников Великой Отечественной.
Юная комсомолка, десятиклассница 201-й московской школы, ставшая бойцом-добровольцем, она явила потрясающую стойкость и невероятное мужество в самый критический момент первого военного полугодия, когда в полном смысле решалась судьба советской столицы и всей нашей страны. Миллионы соотечественников получили от бесстрашной героини духовный заряд колоссальной силы!
Вот почему, развернув полвека спустя новое нашествие на Советский Союз с целью его уничтожения, враги внутренние и внешние начали с расправы над памятью наших советских героев. И одной из первых жертв стала Зоя Космодемьянская, которую теперь казнили вторично — подлой ложью и чудовищной клеветой.
О расследовании фальсификаций и борьбе с ними, а также о великой школе патриотизма и героизма, воспитавшей поколение Зои, об уроках славы и предательства, которые насущно важны для нас сегодня, немало рассказывала и продолжает рассказывать «Правда». На её страницах военкор Пётр Лидов в своих пронзительных очерках первым открыл стране и миру Зою Космодемьянскую, и этой теме мы верны.
Ныне, в канун юбилея выдающейся советской героини, наша газета решила предоставить вам, дорогие читатели, фрагменты из книги «Повесть о Зое и Шуре». Её автор — Любовь Тимофеевна Космодемьянская, мать двух Героев Советского Союза. Известно, что Зоин брат Александр, который был на два года моложе, после её гибели тоже пошёл воевать и тоже погиб: как и сестра, героически.
Какая же это была семья, в которой выросли двое героев? Советская. И время было советское, предвоенное, закладывавшее основы массового народного подвига.
Книга Л.Т. Космодемьянской писалась вскоре после той великой войны и читалась тогда необыкновенно широко. Но вот изданий её в последние десятилетия (давным-давно!) не было. А не упущение ли это, как вы считаете? И что думаете о значении советского героизма в современных условиях?
Виктор КОЖЕМЯКО,
политический обозреватель «Правды»,
член редколлегии,
член ЦК КПРФ.
Как росли герои — сестра и брат
Рассказывает мать Зои и Шуры
Начинает Любовь Тимофеевна свои воспоминания так: «На севере Тамбовской области есть село Осиновые Гаи. «Осиновый гай» значит «осиновый лес». Старики рассказывали, что когда-то здесь и вправду росли дремучие леса. Но в пору моего детства лесов уже не было и в помине».
Вот в селе этом и родились сама автор воспоминаний, её будущий муж, а затем двое их детей. Отец Любы Тимофей Семёнович Чуриков был волостной писарь. Как Любовь Тимофеевна отмечает, «человек без образования, но грамотный и даже начитанный». Образование дочери он очень хотел дать, и в 1910 году сумел устроить её в женскую гимназию, находившуюся в уездном городе Кирсанове. Там определилась и Любина мечта — стать учительницей.
А первые шаги на этом поприще были сделаны недалеко от родного села — в маленькой деревне Соловьянке, куда после Октябрьской революции направил её отдел народного образования: преподавать в начальных классах. Через год перевели в Осиновые Гаи.
Далее читайте выдержки из повествования Любови Тимофеевны.
нова дома
Вернувшись в Осиновые Гаи, я снова встретилась с товарищем детства Толей Космодемьянским. Он был моим сверстником, но казался много взрослее: по серьёзности, по жизненному опыту я не могла равняться с ним. Анатолий Петрович около года служил в Красной Армии, а теперь заведовал в Осиновых Гаях избой-читальней и библиотекой.
Тут же, в избе-читальне, собирался на репетиции драматический кружок: молодёжь Осиновых Гаёв и окрестных деревень, школьники и учителя ставили «Бедность не порок». Я играла Любовь Гордеевну, Анатолий Петрович — Любима Торцова. Он был и нашим руководителем, и режиссёром. Объяснения давал весело, интересно. Если кто-нибудь путал, перевирал слова Островского или начинал вдруг кричать не своим голосом, неестественно таращить глаза и размахивать руками, Анатолий Петрович так остроумно, хоть и беззлобно, передразнивал его, что у того сразу пропадала охота становиться на ходули. Смеялся он громко, весело, неудержимо — ни у кого больше я не слышала такого искреннего, радостного смеха.
Вскоре мы с Анатолием Петровичем поженились, и я переселилась в дом Космодемьянских. Анатолий Петрович жил с матерью — Лидией Фёдоровной — и с младшим братом Федей. Другой брат — Алексей — служил в Красной Армии.
Жили мы с Анатолием Петровичем хорошо, дружно. Он был человек сдержанный, не щедрый на ласковые слова, но я в каждом его взгляде и поступке чувствовала постоянную заботу обо мне, и понимали мы друг друга с полуслова. Очень обрадовались, узнав, что у нас будет ребёнок. «Непременно будет сын!» — решили мы и вместе придумывали мальчугану имя, гадали о его будущем.
— Ты только подумай, — вслух мечтал Анатолий Петрович, — как это интересно: впервые показать ребёнку огонь, звезду, птицу, повести его в лес, на речку… а потом повезти к морю, в горы… понимаешь, впервые!
И вот родился он, наш малыш.
— С дочкой вас, Любовь Тимофеевна, — сказала ходившая за мной старушка. — А вот и сама она голос подаёт.
В комнате раздался звонкий плач. Я протянула руки, и мне показали крошечную девочку с белым личиком, темноволосую и синеглазую. В эту минуту мне показалось, что я вовсе никогда и не мечтала о сыне и всегда хотела и ждала именно её, вот эту самую девочку.
— Назовём дочку Зоя, — сказал Анатолий Петрович. И я согласилась.
Было это 13 сентября 1923 года.
Дочка
Может быть, тому, у кого никогда не было детей, кажется, что все младенцы на один лад: до поры до времени они ничего не понимают и умеют только плакать, кричать и мешать старшим. Это неправда. Я была уверена, что узнаю свою девочку из тысячи новорождённых, что у неё особенное выражение лица, глаз, свой, не похожий на других голос. Я могла бы, кажется, часами — было бы только время! — смотреть, как она спит, как сонная вытаскивает ручонку из одеяла, в которое я её туго завернула, как открывает глаза и пристально смотрит прямо перед собою из-под длинных густых ресниц.
А потом — это было удивительно! — каждый день стал приносить с собой что-то новое, и я поняла, что ребёнок действительно растёт и меняется «не по дням, а по часам». Вот девочка стала даже среди самого громкого плача умолкать, услышав чей-нибудь голос. Вот стала улавливать и тихий звук и поворачивать голову на тиканье часов. Вот начала переводить взгляд с отца на меня, с меня на бабушку или на «дядю Федю» (так мы после рождения Зои стали шутя называть двенадцатилетнего брата Анатолия Петровича). Пришёл день, когда дочка стала узнавать меня — это был хороший, радостный день, он запомнился мне навсегда. Я наклонилась над люлькой. Зоя посмотрела на меня внимательно, подумала и вдруг улыбнулась. Меня все уверяли, будто улыбка эта бессмысленная, будто дети в этом возрасте улыбаются всем без разбору, но я-то знала, что это не так!
Зоя была очень маленькая. Я её часто купала — в деревне говорили, что от купанья ребёнок будет расти быстрее. Она много бывала на воздухе и, несмотря на то что приближалась зима, спала на улице с открытым личиком. На руки мы её попусту не брали — так советовали и моя мать, и свекровь Лидия Фёдоровна: чтоб девочка не разбаловалась. Я послушно следовала этому совету, и, может быть, именно поэтому Зоя крепко спала по ночам, не требуя, чтобы её укачивали или носили на руках. Она росла очень спокойной и тихой. Иногда к ней подходил «дядя Федя» и, стоя над люлькой, упрашивал: «Зоенька, скажи: дядя! дай! Ну, говори же: мама! баба!»
Его ученица широко улыбалась и лепетала что-то совсем не то. Но через некоторое время она и в самом деле стала повторять, сперва неуверенно, а потом всё твёрже: «дядя», «мама»… Помню, следующим её словом после «мама» и «папа» было странное слово «ап». Она стояла на полу, совсем крошечная, потом вдруг приподнялась на цыпочки и сказала: «Ап!» Как мы после догадались, это означало: «Возьми меня на руки!»
Сын
Анатолий Петрович любил, сидя за столом, брать Зою к себе на колени. За обедом он обычно читал, а дочка сидела совсем тихо, прижавшись головой к его плечу, и никогда ему не мешала.
Как и прежде, она была маленькая, хрупкая. Ходить она стала к одиннадцати месяцам. Окружающие любили её, потому что она была очень приветлива и доверчива. Выйдя за калитку, она улыбалась прохожим, и если кто-нибудь говорил шутя: «Пойдём ко мне в гости?» — она охотно протягивала руку и шла за новым знакомым.
К двум годам Зоя уже хорошо говорила и часто, вернувшись «из гостей», рассказывала:
— А я была у Петровны. Знаешь Петровну? У неё есть Галя, Ксаня, Миша, Саня и старый дед. И корова. И ягнята есть. Как они прыгают!
Зое не было ещё и двух лет, когда родился её младший братишка, Шура. Мальчуган появился на свет с громким, заливистым криком. Он кричал басом, очень требовательно и уверенно. Был он гораздо крупнее и здоровее Зои, но такой же ясноглазый и темноволосый.
После рождения Шуры Зое часто стали говорить: «Ты старшая. Ты большая». За столом она сидела вместе со взрослыми, только на высоком стуле. К Шуре относилась покровительственно: подавала ему соску, если он ронял её; покачивала его колыбель, если он просыпался, а в комнате никого не было. И я теперь нередко просила её помочь мне, сделать что-нибудь.
— Зоя, принеси пелёнку, — говорила я. — Дай, пожалуйста, чашку.
Или:
— Ну-ка, Зоя, помоги мне убрать: убери книжку, поставь стул на место.
Она делала всё очень охотно и потом всегда спрашивала:
— А ещё что сделать?
Когда ей было года три, а Шуре шёл второй год, она брала его за руку и, захватив бутылочку, отправлялась к бабушке за молоком.
Помню, раз я доила корову. Шура вертелся рядом. С другой стороны стояла Зоя с чашкой в руках, дожидаясь парного молока. Корову донимали мухи; потеряв терпение, она махнула хвостом и хлестнула меня. Зоя быстро отставила чашку, одной рукой схватила корову за хвост, а другой стала прутиком отгонять мух, приговаривая:
— Ты зачем бьёшь маму? Ты маму не бей! — Потом посмотрела на меня и прибавила, не то спрашивая, не то утверждая: — Я помогаю тебе!
Забавно было видеть их вместе: хрупкую Зою и толстого увальня Шуру.
О Шуре на селе говорили: «У нашей учительницы мальчонка поперёк себя шире: что на бок положи, что на ноги поставь — всё одного роста».
И впрямь: Шура был толстый, крепко сбитый и в свои полтора года много сильнее Зои. Но это не мешало ей заботиться о нём, как о маленьком, а иногда и строго покрикивать на него.
Не знаю, понимал ли Шура, что он младший в семье, но только с самых ранних пор умел этим пользоваться. «Я маленький!» — то и дело жалобно говорил он в свою защиту. «Я маленький!» — требовательно кричал он, если ему не давали чего-нибудь, что он непременно хотел получить. «Я маленький!» — гордо заявлял он иногда без всякого повода, но с сознанием собственной правоты и силы. Он знал, что его любят, и хотел всех — и Зою, и меня, и отца, и бабушку — подчинить своей воле. Стоило ему заплакать, как бабушка говорила: — А кто обидел моего Шурочку? Поди ко мне скорей, дорогой! Вот я что дам своему маленькому внучку!
И Шура с весёлой, плутоватой мордочкой забирался на колени к бабушке.
Если ему в чём-нибудь отказывали, он ложился на пол и начинал оглушительно реветь, бить ногами или жалобно стонать, всем своим видом ясно говоря: «Вот я, бедный маленький Шура, и никто меня не пожалеет, не приголубит!..»
Однажды, когда Шура начал кричать и плакать, требуя, чтобы ему дали киселя до обеда, мы с Анатолием Петровичем вышли из комнаты. Шура остался один. Сначала он продолжал громко плакать и выкрикивал время от времени: «Дай киселя! Хочу киселя!» Потом, видно, решил не тратить так много слов и кричал просто: «Дай! Хочу!» Плача, он не заметил, как мы вышли, но, почуяв тишину, поднял голову, огляделся и перестал кричать: стоит ли стараться, если никто не слушает! Он подумал немного и стал что-то строить из щепочек. Потом мы вернулись.
Увидев нас, он снова попробовал покричать, но Анатолий Петрович строго сказал:
— Если будешь плакать, мы оставим тебя одного, а сами жить с тобой не будем. Понял?
И Шура замолчал.
В другой раз он заплакал и из-под ладошки поглядывал одним глазом: сочувствуем мы его слезам или нет? Но мы не обращали на него никакого внимания: Анатолий Петрович читал книгу, я проверяла тетради. Тогда Шура потихоньку подобрался ко мне и влез на колени, как будто ничего не произошло. Я потрепала его по волосам и, спустив на пол, продолжала заниматься своим делом, и Шура больше мне не мешал. Эти два случая его вылечили: капризы и крики прекратились, как только мы перестали им потакать.
Зоя очень любила Шуру. Она часто с серьёзным видом повторяла слова, сказанные кем-нибудь из взрослых: «Нечего ребёнка баловать, пускай поплачет — беда невелика». Выходило это у неё очень забавно. Но, оставшись одна с братишкой, она была с ним неизменно ласкова. Если он падал и начинал плакать, она подбегала, брала его за руку и старалась поднять нашего толстяка. Она вытирала ему слёзы подолом своего платья и уговаривала:
— Не плачь, будь умным мальчиком. Вот так, молодец!.. Вот, держи кубики. Давай построим железную дорогу, хочешь?.. А вот журнал. Хочешь, покажу тебе картинки? Вот, посмотри…
Любопытно: если Зоя чего-нибудь не знала, она сразу честно признавалась в этом.
Шура же был необычайно самолюбив, и слова «не знаю» просто не шли у него с языка. Чтоб не признаться, что он чего-нибудь не знает, он готов был на любые уловки.
Помню, купил Анатолий Петрович большую детскую книжку с хорошими, выразительными картинками: тут были нарисованы самые разные животные, предметы, люди. Мы с детьми любили перелистывать эту книгу, и я, показывая на какой-нибудь рисунок, спрашивала Шуру: «А это что?» Знакомые вещи он называл тотчас, охотно и с гордостью, но чего только не изобретал, чтобы увернуться от ответа, если не знал его!
— Что это? — спрашиваю я, показывая на паровоз.
Шура вздыхает, томится и вдруг говорит с хитрой улыбкой:
— Скажи лучше сама!
— А это что?
— Курочка, — быстро отвечает он.
— Правильно. А это?
На картинке — незнакомое, загадочное животное: верблюд.
— Мама, — просит Шура, — ты переверни страницу и покажи что-нибудь другое!
Мне интересно, какие ещё отговорки он изобретёт.
— А это что? — говорю я коварно, показывая ему бегемота.
— Вот сейчас поем и скажу, — отвечает Шура и жуёт так долго, так старательно, словно вовсе не собирается кончить.
Тогда я показываю ему картинку, на которой изображена смеющаяся девочка в голубом платье и белом фартучке, и спрашиваю:
— Как зовут эту девочку, Шурик?
И Шура, лукаво улыбнувшись, отвечает:
— А ты спроси у неё сама!
Брат и сестра
С Шурой Зое разрешалось играть только у самого дома, в палисаднике, чтобы не ушибла лошадь или корова, которые свободно паслись возле дома, на лужке. А вот с девочками постарше — Маней и Тасей — она уходила далеко, на огороды и на речку, мелкую, но весёлую, где можно было купаться целыми днями, не боясь утонуть.
Летом Зоя часами бегала с сачком за бабочками, собирала цветы, потом снова купалась и даже сама — в пять лет! — стирала в речке своё бельё, высушивала и в чистом приходила домой.
— Посмотри, мама, — говорила она, внимательно глядя мне в лицо, — хорошо я выстирала? Ты меня не будешь ругать?
Как сейчас вижу её пятилетнюю — загорелую, румяную, с ясными глазами. Только что прошёл быстрый летний дождь — и снова жарко светит солнце, с высокого неба ветром сметает куда-то далеко за горизонт последние облака, с ветвей ещё падают крупные капли, и Зоя бежит ко мне босая по тёплым лужам и смеётся, показывая, как промокло её платье…
А как хорошо было поехать на дальний луг за сеном (пусть на тряской, скрипучей телеге, которую нескладной рысцой везёт плохонькая лошадёнка — что за беда!) и возвратиться на высоком возу, а потом вместе со взрослыми раскидывать и ворошить душистое сено, чтоб досохло за сараем, всласть кувыркаться и прыгать в нём, как в волнах, и, наконец, уснуть от блаженной усталости, свернувшись в комочек тут же, на сене!..
А как весело лазить по деревьям! Забраться повыше, так, чтобы страшновато было взглянуть вниз, чтобы сердце немножко сжималось, когда подаётся под рукой тонкая ветка… И потом потихоньку слезать, нащупывая босой ногой сучья и стараясь не изорвать платье.
А ещё лучше забраться на крышу сарая или на колокольню — любимый наблюдательный пункт всех ребятишек. Всё село перед тобой как на ладони, а там — поля, поля и в полях окрестные деревни… А за ними что? Далеко, далеко?..
Возвращаясь домой, Зоя подсаживалась ко мне и спрашивала:
— Мама, а за Осиновыми Гаями что?
— Село такое — «Спокойные хутора» называется.
— А потом?
— Соловьянка.
— А за Соловьянкой что?
— Павловка, Александровка, Прудки.
— А потом? А за Кирсановом что? А за Тамбовом Москва? — И вздыхала: — Вот бы туда поехать!
Когда отец был свободен, она взбиралась к нему на колени и забрасывала самыми разнообразными и подчас неожиданными вопросами. И, как самую увлекательную сказку, слушала его рассказы обо всём, что делается на белом свете: о высоких горах, синих морях и дремучих лесах, о далёких больших городах и о людях, которые там живут. В такие минуты Зоя вся превращалась в слух: рот её приоткрывался, глаза блестели, мгновениями она, кажется, даже забывала дышать. И, случалось, утомлённая новизной услышанного, она под конец так и засыпала на руках у отца.
Четырёхлетний Шура — озорной, шумный, ему всё нипочём.
— У Шуры карман шевелится! — слышу я изумлённый Зоин голос.
И в самом деле шевелится! Что за чудеса?
— Что у тебя там?
Всё очень просто: карман полон майских жуков — они трепыхаются, пытаются выползти, но Шура зажимает карман в кулак. Бедные жуки!
Чего только я не нахожу по вечерам в этих карманах! Рогатка, кусок стекла, крючки, камешки, жестянки, строго-настрого запрещённые спички — всего не перечтёшь. И постоянно у Шуры на лбу шишка, ноги и руки в ссадинах и царапинах, коленки разбиты. Сидеть на одном месте для него самое тяжёлое наказание. Он бегает, прыгает, скачет с самого раннего утра и до часа, когда я зову детей домой ужинать и спать. Не раз я видела, как после дождя он бегает по двору и бьёт палкой по лужам. Брызги взлетают искристыми фонтанами выше его головы, он весь вымок, но, кажется, даже не замечает этого — всё сильнее размахивает палкой и во всё горло распевает песню собственного сочинения. Я не могу разобрать слов, слышится только какое-то воинственное и ликующее: «Трам-бабам! Барам-бам!» Но всё понятно: надо же Шуре излить свой восторг перед всем, что его окружает, надо выразить, как радуют его и солнце, и деревья, и тёплые глубокие лужи!
Зоя была постоянным товарищем Шуры во всех его играх, бегала и скакала так же шумно, весело и самозабвенно. Но она умела и подолгу молча сидеть и слушать, и глаза у неё при этом были внимательные, тёмные брови слегка сдвигались. Иногда я заставала её на поваленной берёзе неподалёку от дома: она сидела, подперев лицо ладонями, и сосредоточенно смотрела прямо перед собой.
— Ты что так сидишь? — спрашивала я.
— Я задумалась, — отвечала Зоя.
Из тех далёких, слившихся друг с другом дней я вспоминаю один. Мы с Анатолием Петровичем собрались в гости к моим старикам и захватили с собой детей. Едва мы пришли, дедушка Тимофей Семёнович сказал Зое:
— А ты что же, озорница, мне вчера неправду сказала?
— Какую неправду?
— Я тебя спросил, куда ты мои очки девала, а ты говоришь: «Не знаю». А потом я их под лавкой нашёл — уж верно, ты их туда кинула, больше некому.
Зоя исподлобья посмотрела на деда и ничего не ответила. Но, когда нас немного спустя позвали к столу, она сказала:
— Я не сяду. Раз мне не верят, я есть не стану,
— Ну чего там, дело прошлое. Садись, садись!
— Нет, не сяду.
…Так и не села. И я видела, что дед почувствовал себя неловко перед пятилетним ребёнком. На обратном пути я пожурила её, но Зоя, глотая слёзы, повторяла одно: «Не трогала я его очков. Я правду сказала, а он мне не верит».
Зоя очень дружила с отцом. Она любила бывать с ним даже тогда, когда он занимался своим делом и не мог разговаривать с нею. И она не просто ходила вслед за ним, а примечала. — Смотри, папа всё умеет делать,— говорила она Шуре. И правда, Анатолий Петрович умел справиться с любым делом. Это признавали все. Старший сын в семье, рано потерявший отца, он сам пахал, сеял, убирал хлеб. При этом успевал много работать в избе-читальне и в библиотеке. Односельчане очень любили и уважали Анатолия Петровича, доверяли ему, советовались с ним по семейным и иным делам, а уж если надо было выбрать надёжного человека в ревизионную комиссию — проверить работу кооперации или кредитного товарищества, неизменно говорили: «Анатолия Петровича! Его не проведёшь, он во всём разберётся».
Ещё одно привлекало к нему людей: он был на редкость правдив и прямодушен. Если кто-нибудь приходил к нему за советом и он видел, что человек этот не прав, он, не задумываясь, говорил:
— Неправильно ты поступил, я на твою сторону не стану… «Анатолий Петрович никогда душой не покривит»,— нередко слышала я от самых разных людей.
При этом он был очень скромен, никогда не кичился своими знаниями. К нему охотно шли за советом люди гораздо старше его, даже старики, уважаемые люди на селе.
В самом деле, его можно было спросить решительно обо всём, и он на всё умел дать ответ. Он очень много читал и хорошо, понятно рассказывал о прочитанном. Зоя подолгу сиживала в избечитальне, слушая, как он читал крестьянам газеты и рассказывал о событиях, которые тогда переживала наша страна, о Гражданской войне, о Ленине. Всякий раз слушатели засыпали его градом вопросов:
— Анатолий Петрович, вот ты говорил про электричество, а теперь скажи про трактор — это, верно, ещё почудней будет? Где же такой махине повернуться на наших полосках?.. А вот ещё: неужели и вправду есть такая машина, что и жнёт, и молотит, и чистое зерно в мешок ссыпает?..
Однажды Зоя спросила меня:
— А почему папу все так любят?
— Ну а ты как думаешь?
Зоя промолчала, а вечером того же дня, когда я укладывала её, сказала мне шёпотом:
— Папа умный, всё знает. И добрый…
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.