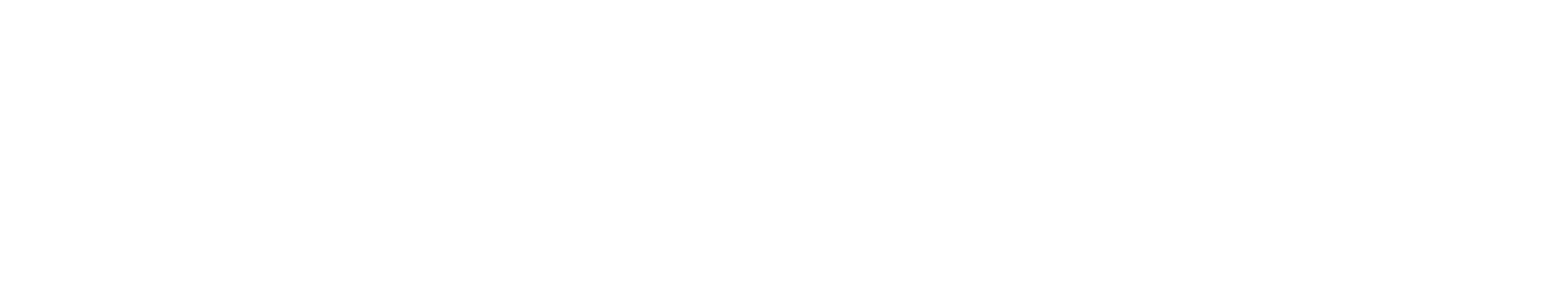Публикуем материал, размещённый на сайте газеты «Советская Россия».
С детских лет мне хотелось увидеть и испытать все, что только может увидеть и испытать человек. Этого, конечно, не случилось. Наоборот, мне кажется, что жизнь была небогата событиями и прошла слишком быстро.
Но так кажется лишь до тех пор, пока не начнешь вспоминать. Одно воспоминание вытягивает за собой другое, потом третье, четвертое. Возникает непрерывная цепь воспоминаний, и вот оказывается, что жизнь была разнообразнее, чем ты думал.
Родился я в 1892 году в Москве, в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика. До сих пор Гранатный переулок осеняют, говоря несколько старомодным языком, те же столетние липы, какие я помню еще в детстве.
Отец мой, несмотря на профессию, требовавшую трезвого взгляда на вещи, был неисправимым мечтателем. Он не выносил никаких тягостей и забот. Поэтому среди родственников за ним установилась слава человека легкомысленного и бесхарактерного, репутация фантазера, который, по словам моей бабушки, «не имел права жениться и заводить детей».
Очевидно, из-за этих своих свойств отец долго не уживался на одном месте. После Москвы он служил в Пскове, в Вильно и, наконец, более или менее прочно осел в Киеве, на Юго-Западной железной дороге.
Отец происходил из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось около Белой Церкви.
Там жили мой дед – бывший николаевский солдат, и бабка – турчанка. Дед был кроткий синеглазый старик. Он пел надтреснутым тенором старинные думки и казацкие песни и рассказывал нам много невероятных, а подчас и трогательных историй «из самой что ни на есть происшедшей жизни».
Моя мать – дочь служащего на сахарном заводе – была женщиной властной и неласковой. Всю жизнь она держалась «твердых взглядов», сводившихся преимущественно к задачам воспитания детей.
Неласковость ее была напускная. Мать была убеждена, что только при строгом и суровом обращении с детьми можно вырастить из них «что-нибудь путное».
Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, благоговейно любили театр. До сих пор я хожу в театр, как на праздник.
Учился я в Киеве, в классической гимназии. Со мной училось несколько юношей, ставших потом известными людьми в искусстве. Учился Михаил Булгаков (автор «Дней Турбиных»), драматург Борис Ромашов, режиссер Берсенев, композитор Лятошинский, актер Куза и певец Вертинский.
В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.
С тех пор решение стать писателем завладело мной так крепко, что я начал подчинять свою жизнь этой единственной цели.
В 1912 году я окончил гимназию, два года пробыл в Киевском университете и работал и зиму и лето все тем же репетитором, вернее, домашним учителем.
К тому времени я уже довольно много поездил по стране (у отца были бесплатные железнодорожные билеты). Я был в Польше (в Варшаве, Вильно и Белостоке), в Крыму, на Кавказе, в Брянских лесах, в Одессе, в Полесье и Москве. Туда после смерти отца переехала моя мать и жила там с моим братом – студентом университета Шанявского. В Киеве я остался один.
В 1914 году я перевелся в Московский университет и переехал в Москву.
Началась Первая мировая война. Меня как младшего сына в семье в армию по тогдашним законам не взяли.
Шла война, и невозможно было сидеть на скучноватых университетских лекциях. Я томился в унылой московской квартире и рвался наружу, в гущу той жизни, которую я только чувствовал рядом, около себя, но еще так мало знал.
Я пристрастился в то время к московским трактирам. Там за пять копеек можно было заказать «пару чая» и сидеть весь день в людском гомоне, звоне чашек и бряцающем грохоте «машины» – оркестриона. Почему-то почти все «машины» в трактирах играли одно и то же: «Шумел-горел пожар московский» или «Ах, зачем эта ночь так была хороша».
Трактиры были народными сборищами. Кого только я там не встречал! Извозчиков, юродивых, крестьян из Подмосковья, рабочих с Пресни и из Симоновой слободы, толстовцев, молочниц, цыган, белошвеек, ремесленников, студентов, проституток и бородатых солдат – «ополченцев». И каких только говоров я не наслушался, жадно запоминая каждое меткое слово.
Тогда у меня уже созрело решение оставить на время писание туманных своих рассказов и «уйти в жизнь», чтобы «все знать, все почувствовать и все понять». Без этого жизненного опыта пути к писательству были наглухо закрыты, – это я понимал хорошо.
Февральская революция застала меня в глухом городке Ефремове, бывшей Тульской губернии.
Я тотчас уехал в Москву, где уже шли и день и ночь шумные митинги на всех перекрестках, но главным образом около памятников Пушкину и Скобелеву.
Я начал работать репортером в газетах, не спал и не ел, носился по митингам и впервые познакомился с двумя писателями – другом Чехова стариком Гиляровским, «Дядей Гиляем», и начинающим писателем-волгарем Александром Степановичем Яковлевым.
Судорожная жизнь газетных редакций совершенно захватила меня, а беспокойное и шумное племя журналистов казалось мне наилучшей средой для писателя.
После Октябрьской революции и переезда Советского правительства в Москву я часто бывал на заседаниях ЦИКа (в «Метрополе», в «зале с фонтаном»), несколько раз слышал Ленина, был свидетелем всех событий в Москве в то небывалое, молодое и бурное время.
Потом опять скитания по югу страны, снова Киев, служба в Красной Армии в караульном полку, бои со всякими отпетыми атаманами – Зеленым, Струком, Червоным ангелом и «Таращанскими хлопцами».
Киев в то время часто осаждали. Вокруг города почти непрерывно гремела канонада, и население толком даже не знало, кто пытается захватить город – петлюровцы, Струк или деникинцы.
Из Киева я уехал в Одессу, начал работать там в газете «Моряк» – пожалуй, самой оригинальной из всех тогдашних советских газет.
Она печаталась на обороте разноцветных листов от чайных бандеролей и помещала множество морского материала – от стихов французского поэта и матроса Тристана Корбьера до первых рассказов Катаева.
Была блокада. Море было пустынно, но, как всегда, прекрасно. В редакции работало около семидесяти сотрудников, но никто из них не получал ни копейки гонорара. Платили то дюжиной перламутровых пуговиц, то синькой, то пачкой черного кубанского табака. Время было голодное и веселое.
В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников «Моряка» были Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей Соболь, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель Юшкевич. Мы смотрели на него, как на реликвию.
Летом 1932 года я задумал написать книгу об уничтожении пустынь, объехал все берега Каспийского моря и, возвратившись, написал повесть «Кара-Бугаз». Писал я ее не в Москве, а в Березниках, на Северном Урале, куда был послан корреспондентом РОСТА.
После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной всепоглощающей, порой мучительной, но всегда прекрасной и любимой работой.
Примерно в это время я «открыл» для себя под самой Москвой неведомую и заповедную землю – Мещеру.
Открыл я ее случайно, рассматривая клочок карты, – в него мне завернули в соседнем гастрономе пачку чая.
На этой карте было все, что привлекало меня еще с детства, – глухие леса, озера, извилистые лесные реки, заброшенные дороги и даже постоялые дворы.
Я в тот же год поехал в Мещеру, и с тех пор этот край стал второй моей родиной. Там до конца я понял, что значит любовь к своей земле, к каждой заросшей гусиной травой колее дороги, к каждой старой ветле, к каждой чистой лужице, где отражается прозрачный серп месяца, к каждому пересвисту птицы в лесной тишине.
Ничто так не обогатило меня, как этот скромный и тихий край. Там впервые я понял, что образность и волшебность (по словам Тургенева) русского языка неуловимым образом связаны с природой, с бормотаньем родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами, отдаленной песней девушек в лугах и тянущим издалека дымком от костра.
Мещера постепенно стала любимым приютом нескольких писателей. Там жил Фраерман и часто бывали Гайдар, Роскин, Андрей Платонов.
В Мещере я сдружился с Гайдаром – с этим удивительным человеком, существовавшим в повседневной действительности так же необыкновенно и задушевно, как и в своих книгах.
Мещере я обязан многими своими рассказами, «Летними днями» и маленькой повестью «Мещерская сторона».
Почти каждая моя книга – это поездка. Или, вернее, каждая поездка – это книга.
После поездки в Поти я написал «Колхиду», после изучения берегов Черноморья – «Черное море», после жизни в Карелии и в Петрозаводске «Судьбу Шарля Лонсевиля» и «Озерный фронт».
Свою любовь к Ленинграду я выразил в какой-то мере в «Северной повести» и во многих других вещах.
Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском, в Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии. Во время Великой Отечественной войны я был военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест.
У каждого писателя своя манера жить и писать. Что касается меня, то для плодотворной работы мне нужны две вещи: поездки по стране и сосредоточенность.
Написал я за свою жизнь как будто много, но меня не покидает ощущение, что все написанное только начало, а вся настоящая работа еще впереди. Это довольно нереальная мысль, если принять во внимание мой возраст.
Жизнь всегда кажется мне смертельно интересной во всех своих аспектах. Этим, очевидно, и объясняется, что я с одинаковой охотой обращаюсь к самым разнообразным темам и жанрам – к рассказу, повести, роману, сказке, биографической повести, краеведческому очерку, к пьесе, статьям и сценариям…
Мы часто обращаемся внутренним своим взором к Пушкину. Он вместил все, чем живет человек, в пределы своей блистательной поэзии. Заканчивая этот короткий очерк своей жизни, я хочу напомнить и себе и другим писателям тот пушкинский великий закон мастерства, следование которому навеки соединяет сердце писателя с сердцем его народа. Закон этот прост. Пушкин сказал:
…Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя
свободный ум,
Усовершенствуя плоды
любимых дум,
Не требуя наград
за подвиг благородный.
Март 1966 года
Крым. Ореанда
Константин Паустовский
Живое и мертвое слово
Еще в юности я вычитал у какого-то древнего мудреца изречение: «От одного слова может померкнуть солнце».
Я тотчас забыл это изречение и никогда не вспоминал о нем. Но однажды случилось незначительное на первый взгляд событие.
Действительно, после этого события мне показалось, что солнце померкло и скучный сумрак затянул все, что перед этим сверкало вокруг разнообразными красками, светом и теплотой.
Случилось это на Оке, вблизи Рязани, около наплавного моста.
Я перешел по мосту на луговой берег, на пески. От нагретой лозы пахло вялой сладостью. По Оке нехотя проплывало отраженное небо, все в летних белых облаках.
На песчаном пляже сидел человек с сизым затылком, в черном френче и сапогах. Рядом с ним лежал портфель, раздувшийся от бумаг, как откормленный кот.
Посреди реки купались, рыча и повизгивая, два человека.
Неожиданно сидевший на берегу человек сердито закричал:
– Эй, товарищи! Закругляйте купаться!
– Мгновенно, товарищ начальник! – бодро крикнул в ответ молодой человек.
– Лимит времени прошу соблюдать! – снова прокричал человек в черном френче.
Солнце в моих глазах померкло от этих слов. Я как-то сразу ослеп и оглох. Я уже не видел блеска воды, воздуха, не слышал запаха клевера, смеха белобрысых мальчишек, удивших рыбу с моста.
Мне стало даже страшно. Что это? – спрашивал я себя. Шутит ли этот человек или говорит всерьез? Если всерьез, то это отвратительно, а если шутит, то это еще отвратительнее…
В сотый раз пришла в голову мысль, что мы – нерадивые потомки своих отцов. Для чего Пушкин, Языков, Лермонтов, Герцен, Толстой, Чехов, Лесков, Салтыков-Щедрин создавали величайший в мире по красоте и зримой образности русский язык? Для чего в тысячах деревень этот язык приобретал меткость, силу, задушевность, блеск и певучесть?
Для чего в этом языке существует неизмеримое количество великолепнейших слов, способных передать все богатство духовного мира нашего человека? И не только духовное богатство, но и все богатства природной жизни страны – ее шумов, ее очарований – от соловьиного боя до гула сосновых вершин и от мгновенной зарницы до жгучей росы на траве.
Для чего был вызван к жизни этот волшебный, свободный, крылатый и живой язык, живой потому, что он всегда выражал живую душу народа? Неужели для того, чтобы свести его к косноязычию, к словарной нищете, к фонетическому безобразию, иными словами – к языку мертвому?
Мне в тот день вообще не везло. В двух километрах от реки на обочине дороги я увидел фанерный щит, рябой от дождя, с лозунгом:
«Доярки! Выполняйте среднефермские обязательства надоя!»
Солнце вторично погасло в тихом и, казалось, обиженном небе.
Удары в тот день сыпались на меня один за другим. Я свернул с большака к безлюдному парому на Старице.
Шалаш перевозчика зарос по крышу анисом и болиголовом. На лавочке около шалаша сидел его угрюмый и косматый хозяин.
Я присел рядом. Перевозчик угостил меня махоркой. Он оторвал кусок газеты и дал его мне скрутить козью ножку.
Я посмотрел на обрывок газеты:
«В ночь на 15 июня гражданин Кузин А.И. совершил из ларька райпотребсоюза хищение государственных материальных ценностей на 167 рублей».
И тут же, рядом, я увидел заголовок другой заметки:
«В честь памяти Льва Толстого».
– Чего он украл? – спросил я.
– «Матри-альны-е ценности», – прочел, запинаясь, паромщик. – Надо думать, материю. Сукно на пальто. Или на полупальто? – повторил он вопросительно. – Разве эту газету поймешь! Районного значения газета.
Чтобы прийти в себя и избежать дальнейших возможных огорчений, я ушел на Старицу и заночевал там на берегу, в старом шалаше под непроглядной сенью ив.
Я лежал на старом сене и почти всю ночь напролет вспоминал стихи разных наших поэтов. Это вернуло мне веру в могущество русского языка, в то, что ничто не сможет убить его, как нельзя убить звезды, воздух, поэзию, великую душу народа…
Появилось у нас довольно много людей, владеющих двумя языками – языком ведомственным и языком живым.
Они применяют тот или иной язык, смотря по надобности. Шаблонный и неуклюжий язык протоколов и отчетов считается у этих людей как бы эталоном современности – языком, единственно годным для служебной и общественной жизни. Живая и образная речь отодвигается на второе место – в область семьи, личных привязанностей и увлечений, в область всего, что не связано со службой.
В одном из среднерусских сел, где мне пришлось жить, председателем сельсовета был некий Петин – маленький, милый, всегда чем-то взволнованный человек. С величайшим благоговением он относился к наукам, особенно к истории. Много лет он «составлял» (по его словам) историю своего села и вписывал ее в толстую тетрадь…
Разговор Петина в обыденной жизни был полон метких слов, сравнений, прибауток, юмора. Но стоило ему подняться на трибуну для очередного доклада и выпить при этом, по примеру больших ораторов, стакан желтоватой кипяченой воды, как он преображался и, держась за несвойственный ему галстук, как за якорь спасения, начинал речь примерно так:
– Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидирования ее отставания по плану надоев молока?
И вот умный и веселый человек, вытянувшись и держа руки по швам, нес два часа убийственную околесину на неизвестном варварском языке. Именно на неизвестном и варварском, потому что назвать этот язык русским мог бы только жесточайший наш враг.
Русский язык принес нам из далеких времен редкий подарок – «Слово о полку Игореве», его степную ширь и горечь, трепет синих зарниц, звоны мечей.
Этот язык украшал сказками и песнями тяжелую долю простого русского человека. Он был гневным и праздничным, ласковым и разящим. Он гремел непоколебимым гневом в речах и книгах наших вольнодумцев, томительно звучал в стихах Пушкина, гудел, как колокол на башне вечевой, у Лермонтова, рисовал огромные полотна русской жизни у Толстого, Герцена, Тургенева, Достоевского, Чехова, был громоподобен в устах Маяковского, прост и строг в раздумьях Горького, колдовскими напевами звенел в строфах Блока.
Нужны, конечно, целые книги, чтобы рассказать о всем великолепии, красоте, неслыханной щедрости нашего действительно волшебного языка – точного, как алмазный резец, и кружащего голову, как вино.
А как звонко и строго слышался его ритм в стихах о самом блистательном городе мира!
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…
Этот город потребовал новых слов для описания своих торжественных пространств и величественного соединения зданий. И они появились, эти слова, – «проспекты-перспективы», «туманные линии», «державное теченье».
Певучесть и звонкость этого языка доходят порой до предела, до совершенства, тревожа любое, даже самое холодное, сердце:
Печаль ресниц, сияющих и черных,
Алмазы слез, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз,
Счастливых, радостных, смиренных, –
Все помню я… Но нет уж в мире вас…
Богатства русского языка неизмеримы. Они просто ошеломляют. Для всего, что существует в мире, в нашем языке есть точные слова и выражения.
Подобно тому как каждое слово неотделимо от понятия, которое оно передает, так и русский язык неотделим от духовной сущности русского народа и от его истории.
Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему звучанию он настолько разнообразен, что заключает в себе звучания почти всех языков мира.
Но за последние годы язык начал быстро портиться, терять образность, силу, начал тускнеть и жухнуть. Это вызвало широкое движение за чистоту языка.
О борьбе за чистоту языка веско и страстно говорил Ленин.
Об этом пишут и говорят сотни людей – подлинных патриотов: ученых и писателей, рабочих и учителей. Но пока что сила сопротивления со стороны невежд, людей с холодной, рыбьей кровью очень велика и упорна.
Для успешной борьбы за язык необходимо знать все, что его засоряет и умертвляет, знать все, с чем нужно бороться.
Нужно добиваться полного уничтожения тех нескольких скудных и паразитических языков, которые крепко въелись в жизнь, существуют рядом с подлинным русским языком и пытаются вытеснить его и заменить собой.
Какие же это языки?
Прежде всего, язык бюрократический, казенный. Он враждебен живому языку, как бюрократ враждебен всякому живому делу.
Огромную и печальную роль в распространении этого языка играют газеты (особенно районные), радиопередачи и передачи по телевидению. Этот язык вторгся в школьные учебники, в научные труды, даже в литературу.
Он характерен жалкими потугами на научность («предельный норматив», «пищеблок», «торговая точка», – очевидно, в скором времени можно ожидать появления новых слов – «торговое двоеточие» или «торговая запятая», – «закаливающий фактор», «санузел» и тому подобное). Кроме того, этот язык напыщен («вручил» вместо «передал», «преподнес» вместо «подарил», «завершил» вместо «окончил», «проживает» вместо «живет», «дворец бракосочетаний» вместо «свадебный дворец»), страдает громоздким построением фраз, путаницей понятий, удивительной скудостью.
В этом ужасающем казенном языке все многообразие русских глаголов, все глагольные богатства языка сводятся, по существу, к двум глаголам – «иметь» и «являться». Глагол «иметь» получил свое пышное распространение в связи с засилием плохих переводов с немецкого языка.
И вот начинается жвачка: «Имеются ли у вас учебники?», «Имеются определенные недостатки», «Что мы имеем в области животноводства в Исландии?», «Имеется ли в совхозе база на зимне-стойловый период?»
Но бюрократический язык не одинок. Его поддерживает и подкрепляет обыватель. Он тоже создал (главным образом заимствовал от прошлых поколений) свой язык – язык пошляков.
Что скрывать, пошлости еще много – пошлых идей, вкусов, песенок, поступков, пошлой морали и пошлого мировоззрения. Язык пошляков – плоский, бесцветный, хихикающий. Кроме выражений обывателей прошлого века в него вошло много новых слов – «блат», «левак», «порядочек» и тому подобное.
Существование этих двух языков, вернее, жаргонов, рядом с животворным и полным разума русским языком – чудовищная нелепость (или, как сказал бы чиновник, «является нелепостью»).
…Дурной язык – следствие невежества, потери чувства родной страны, отсутствия вкуса к жизни. Поэтому борьба за язык должна начаться со всеобщей борьбы за подлинное повышение культуры, за власть разума, за истинное разностороннее образование.
Широко известно, что в школах русский язык преподается большей частью скучно, равнодушно, а иной раз и без достаточного его знания самими преподавателями.
Нужно все это резко изменить. Нужно пересмотреть ряды авторов всех учебников и допускать к этому важнейшему делу только людей живых, знающих язык и умеющих писать точно, увлекательно.
Каждый доклад, независимо от темы, должен быть живым, живописным, а не набором шаблонных фраз и цифр.
Особенно резко и немедленно надо улучшить язык наших газет. Это – дело чести всех советских журналистов. И язык книг. Потому что язва сухого и тощего языка начинает уже постепенно проникать даже в литературу.
Необходимо издавать журнал «Русский язык» – боевой и высококвалифицированный.
Очевидно, эта гигантская работа должна быть объединена в каком-то полномочном комитете из представителей всех организаций, связанных с работой над языком.
Русский язык, по существу, дан не одному, а многим народам, и было бы настоящим преступлением перед потомками, человечеством, перед культурой позволить кому бы то ни было искажать его и калечить.
Я верю вместе с миллионами советских людей, что начнется широкое народное движение за его чистоту, свежесть, выразительность, за умножение языковых богатств в соответствии с эпохой, наконец, за полное соответствие языка мышлению и характеру народа.
Наш язык – наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость! Глубоко прав Тургенев, сказавший, что такой великий язык мог быть дан только великому народу.
30 декабря 1960 г.
(Из сборника «Наедине с осенью»)
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.