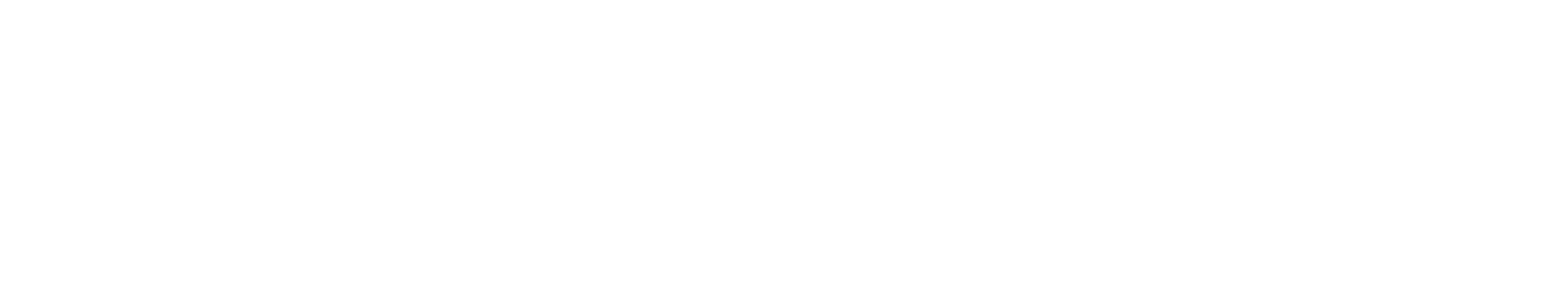Снежным морозным утром иду по набережной Мойки к дому, где после дуэли с Дантесом страдал, мучился от невыносимой боли Александр Сергеевич Пушкин, к дому, где душа великого поэта отлетела в вечность. И вдруг на стене соседнего трёхэтажного здания с балконом и аркой вижу белую мраморную доску, сообщающую, что здесь жил лицейский товарищ Пушкина декабрист Иван Иванович Пущин. «Да, — подтвердил экскурсовод в Музее-квартире А.С. Пушкина на Мойке, 12, — волею судеб за несколько месяцев до своей гибели поэт поселился рядом с домом, хорошо ему знакомым с детства».
ВПЕРВЫЕ в Петербурге юный Александр Пушкин очутился летом 1811 года — сопровождаемый дядей, московским стихотворцем и острословом Василием Львовичем Пушкиным, мальчик приехал поступать в новое учебное заведение для дворянских детей, открывавшееся в Царском Селе, во флигеле Екатерининского дворца. До экзаменов в Лицей оставалось ещё много времени, жить в гостинице «Бордо», что стояла на углу Мойки и Фонарного переулка, прижимистому дядюшке показалось дороговатым, и он вместе с племянником перебрался на частную квартиру, не преминув сообщить свой новый адрес московскому приятелю князю Петру Андреевичу Вяземскому: «На Мойке, близ Конюшенного моста, в доме купца Кувшинникова» (современный адрес: набережная Мойки, дом 13).
Ну а дальше предоставим слово самому Ивану Ивановичу Пущину, оставившему нам обстоятельные «Записки о Пушкине»: «У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошёл какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. Я слышу: Александр Пушкин — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я заметил его с первого взгляда… Не припомню, кто, только чуть ли не В.Л. Пушкин, привёзший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живёт у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видеться… С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчётной симпатии… При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда гулял с ним в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что если несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня».
Созвучие фамилий, видимо, сыграло свою роль и при распределении комнат, где свежеиспечённым лицеистам предстояло прожить ближайшие шесть лет. Как пишет Иван Иванович, инспектор в первый лицейский день «привёл меня прямо в четвёртый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была чёрная дощечка с надписью: №13. Иван Пущин; я взглянул налево и увидел: №14. Александр Пушкин. Очень рад был такому соседу…»
Ни в детстве, ни позже Пушкин не был человеком, приятным во всех отношениях. Как свидетельствует Иван Пущин, тот «с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти… Я как сосед (с другой стороны его нумера была глухая стена) часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нём была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило… Главное, ему недоставало того, что называется тактом… Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами это как-то скоро и незаметно устроилось».
А ниже Пущин приводит записанные им по памяти и, разумеется, обращённые к нему пушкинские стихи, которые я не нашёл ни в одном собрании Сочинений А.С. Пушкина (подчёркивания в тексте сделаны автором воспоминаний):
Товарищ милый,
друг прямой,
Тряхнём рукою руку,
Оставим в чаше
круговой
Педантам сродну скуку:
Не в первый раз мы
вместе пьём,
Нередко и бранимся, —
Но чашу дружества
нальём —
И тотчас помиримся.
«Записки» Ивана Пущина необычайно ценны для нас и тем, что показали «из первых уст», как проявлялся и постепенно набирал силу поэтический дар его лицейского однокашника: «Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончивши лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочёл два четырёхстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого его поэтического лепета…
Впрочем, надобно сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и всё писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец:
— Что ж вышло? Чему равняется икс?
Пушкин, улыбаясь, ответил:
— Нулю!
— Хорошо! У вас, Пушкин, в моём классе всё кончается нулём. Садитесь на своё место и пишите стихи».
И он писал их по поводу и без повода. Как рассказывает Пущин, «на публичном нашем экзамене Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин читал тогда свои «Воспоминания в Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто всё живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением… Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать и осенил кудрявую его голову, мы все под каким-то неведомым влиянием благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его уж не было: он убежал!»
Прощаясь с Лицеем и лицейскими друзьями, Александр вписал в альбом Пущина строки, которые тот запомнил на всю жизнь (сам альбом после декабрьского вооружённого восстания на Сенатской площади в Петербурге затерялся где-то в следственных архивах):
Взглянув когда-нибудь
на тайный сей листок,
Исписанный когда-то
мною,
На время улети
в лицейский уголок
Всесильной,
сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые
минуты первых дней,
Неволю мирную,
шесть лет соединенья,
Печали, радости,
мечты души твоей,
Размолвки дружества и
сладость примиренья…
Что было и не будет
вновь…
И с тихими тоски
слезами
Ты вспомни первую
любовь.
Мой друг, она прошла…
но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз
твой заключён;
Пред грозным временем,
пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!
Пушкин как будто предчувствовал, что его друга ждёт грозная судьба, да и земные дни его самого закончатся трагически. Однако пока юного поэта кружит в своём водовороте светская жизнь, пока он до хрипоты спорит на заседаниях литературного общества «Арзамас» и, говоря словами императора Александра I, наводняет Россию возмутительными стихами. Расплата не заставляет себя долго ждать: ссылка на юг, в Бессарабию и Одессу, а позже — в псковскую глушь, в родовую деревеньку Михайловское, где из-под его пера однажды вырываются проникнутые глубокой грустью строки:
Печален я: со мною
друга нет,
С кем долгую запил бы
я разлуку,
Кому бы мог пожать
от сердца руку
И пожелать весёлых
много лет.
Но друг на то и друг, чтобы даже на большом расстоянии почувствовать зов дорогого ему человека. Страницы про то, как Пущин навестил Пушкина в его деревенском изгнании, пожалуй, лучшие в его «Записках», и я не удержусь, приведу их с максимальной полнотой:
«Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, всё лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились смаху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора…
Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке.
Было около восьми часов утра… Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она всё поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил её в объятиях…
Я привёз Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать её вслух… Потом он мне прочёл кое-что своё, большей частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы»…
Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить: на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы ещё чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьём, и пьём на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин ещё что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрыпнули за мною…»
…Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый
посетил;
Ты усладил изгнанья
день печальный,
Ты в день его лицея
превратил.
…Прошло лишь три года после той памятной встречи, но судьба Пущина круто переменилась — он в Сибири, на каторге. И однажды к частоколу Читинского острога его подзывает Александра Григорьевна Муравьёва, жена декабриста Никиты Муравьёва, последовавшая за мужем «во глубину сибирских руд», отдаёт листок бумаги, на котором неизвестною рукой было выведено:
Мой первый друг,
мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор
уединённый,
Печальным снегом
занесённый,
Твой колокольчик
огласил.
Молю святое
провиденье:
Да голос мой душе
твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских
ясных дней!
«Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! — восклицает Иван Иванович Пущин. — Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга».
Позже, когда до ссыльных декабристов дошла горестная весть о гибели Пушкина, Пущин не раз задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы я привлёк его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю?» И пришёл вот к какому выводу: «Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано». Как полагает Пущин, «характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной общественной жизни, которые бы прошли мимо него, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железные решётки, а о жизни людей разве только слышать».
…Царским манифестом 26 августа 1856 года оставшиеся в живых декабристы получили освобождение. Пущин смог вновь переступить порог дома на набережной Мойки, где он когда-то жил и где был арестован после разгрома декабрьского восстания. «В тот же день лицейские друзья явились. Во главе всех Матюшкин и Данзас», — сообщил он письмом своему соратнику-декабристу Евгению Оболенскому. А ещё через два года Пущин завершит свои «Записки о Пушкине» следующими строками:
«В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он между прочим рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приезжала У.К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин, прося поблагодарить её за участие, извинялся, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил:
— Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать.
Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошёл до меня с лишком через 20 лет!..»
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.